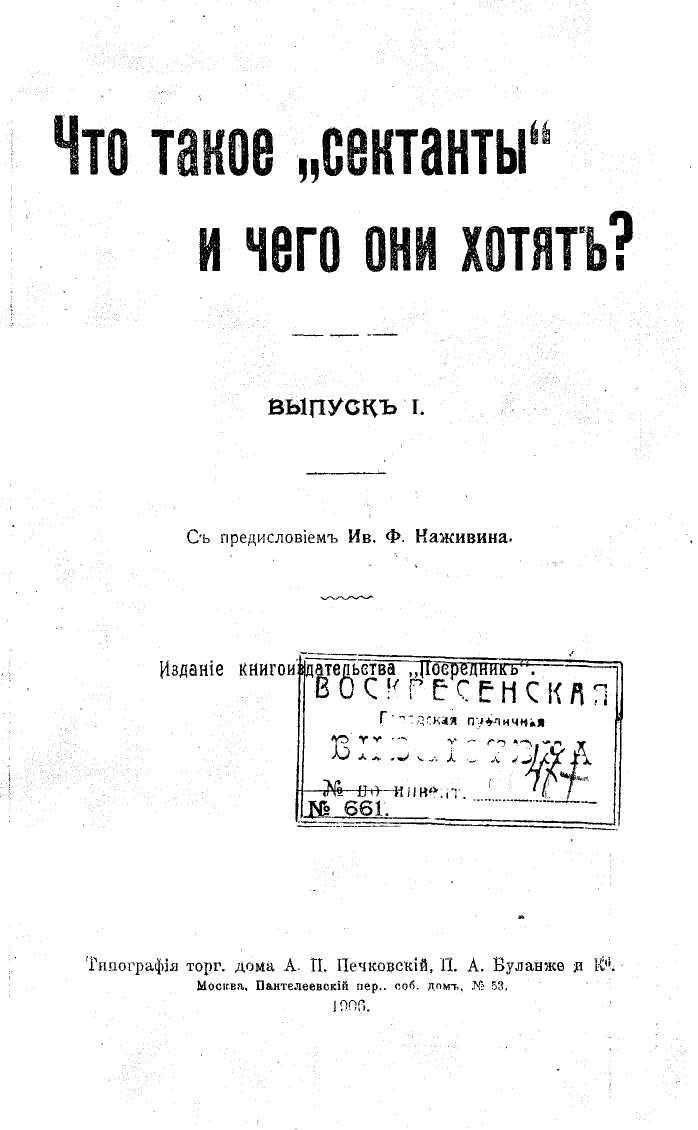
Что такое "сектанты"
и чего они хотят?
ПРЕДИСЛОВИЕ
———
Несколько месяцев тому назад мне пришлось
беседовать со Л. Н. Толстым о религиозных движениях в народе и об отношении к этим
движениям, так называемых, образованных людей.
— Отношение их к религиозной жизни народа
— сказал Лев Николаевич — похоже на отношение лакея к своему хозяину, ученому
математику. Хозяин пишет на доске какие-то цифры, буквы, ставит радикалы, знаки
равенства, плюсы, минусы, а лакей смотрит сзади и думают: „как нескладно у него
все это выходит, я напишу куда лучше"... И вот, когда хозяин, решив задачу,
достигнув цели, которую он все время имел в виду, уходит, лакей стирает все
написанное им с доски и сам начинает старательно выводит и буквы, и плюсы, и
радикалы, и цифры. Все это выходит у него много красивее, чем у хозяина, но — не
имеет никакого смысла.
Трудно более метко охарактеризовать
отношение, так называемых, образованных людей к религиозным исканиям народа. Наша
текущая литература самым старательным образом отмечает все споры, ссоры и
расколы всевозможных партий, секций, подсекций и кружков, и то, какими новыми,
только что
—
4 —
привезенными с Запада игрушками тешится наиболее
„передовая" часть интеллигенции, и как выдумал играть по-новому, задом к публике,
на сцене такой-то актер, и о том, какие бывают на свете необыкновенные босяки,
и о том, какие министры нужны, чтобы спасти Россию... Все это считается очень
важным и нужным. На огромное же, все растущее и в глубь, и в ширь,
явление „сектантства", явление, имеющее не только важное, но самое
важное значение в жизни русского народа, никто — кроме искоренителей миссионеров
разве — не обращает никакого внимания, а если и обращает, то мельком, свысока:
все это грубые, жалкие суеверия, а мы, — как лакей математика, — можем сделать
красивее, лучше. Революционная интеллигенция, внимание
которой было в последние года остановлено сильно проявляющимся у
„сектантов" стремлением к коренному переустройству жизни, пытается
завязать сношенья с ними, но опять-таки не для того, чтобы узнать то, к чему
стремится, чего хочет народ, а для того, чтобы обратить его в свою веру,
в веру своей подсекции или фракции, не идет туда, как ручеек к безбрежному морю,
чтобы радостно слиться с ним, а стремится море вместить в узкое, извилистое,
непостоянное русло своих ручейков: все эти люди совершенно забывают, что
определит новые формы, в которые выльется народная жизнь, определит
в конце концов не сбившаяся с толку интеллигенция, не толстые журналы и газеты,
не подсекции, а сам народ, его дух; забывают, главное, то, что движения эти в народном
море вызваны не новой выдумкой, только что переданной по телеграфу из Берлина,
и скоро сменяемой другой выдумкой, из Парижа, но являются могучим, вечным движением
человечества из мрака к свету, медленным, тысячелетним, но безостановочным разгоранием
того огня,
—
5 —
который был принесен Христом и другими светлыми
посланниками Бога на землю, разгоранием, о котором так томился Христос... Народ
тяготится старой жизнью, мертвые формы ее давят его; в лице
наиболее сознательных и культурных, в истинном значении этих слов, представителей
своих, „сектантов", он требует многого, очень многого, — много больше, чем
берлинские мудрецы, много больше, чем составляемые от его имени резолюции, и
совсем не тем путем хочет он — лучшая, наиболее сильная и глубокая часть его, —
достигнуть своих высоких, вечных целей, какой ему навязывают.
Желающим познакомиться ближе с „сектантами"
очень рекомендую прекрасные книги Пругавина „Религиозные отщепенцы" (изд.
Т-ва „Общественная Польза", 1904, 2 р.), Тана „Духоборы в Канаде"
(очерки и рассказы, том V, изд. Н.
Глаголева, 1 р.) и Сулержицкого „В Америку с духоборами" (изд.
„Посредника", 1905, 1 р. 30 к.). Если прибавить к этому
„Очерки русского религиозного разномыслия" проф. А. К. Бороздина, большая
часть которых посвящена, однако, старообрядчеству, брошюру Ольховского „Наварены
в Венгрии и Сербии", его же очень ценные с фактической стороны
(также, как и брошюра о назаренах) очерки о духоборах, печатавшиеся в „Образовании",
то это, кажется, будет все, что появилось в печати о наших „сектантах" за
последние года. Сравните с этим ураган брошюр и книг, появившихся за
последние месяцы, только и посвященных берлинским и всяким другим выдумкам, бесконечным
спорам секций и подсекций всевозможных партий о том, что надо сделать с невежественным,
темным народом, и перетряхиванию жалких лохмотьев западно-европейских
революций!..
—
6 —
Настоящей серией выпусков, под общим заглавием „Что такое „сектанты" и чего они хотят?"
мы, по мере сил, стараемся пополнить огромный пробел в нашей убогой литературе
о духовной жизни нашего „хозяина", безбрежного моря, питающего всех нас...
Ив. Наживин.
Июль, 1906.
„Наживинка"
———
„НЕ НАШ".
(Из воспоминаний врача о Карийской каторге)
———
О ссыльно-каторжном Егоре
Рожков, из „не наших", я узнал впервые от Ивана Павловича Мельших (старшего
фельдшера каторжного лазарета) вскоре по приезде моем в Кару, в 1872 году.
Недели через полторы, при осмотре шести
каторжных тюрем, я услышал рассказы о том же Рожкове от смотрителей тюрем, в которых,
как оказалось, по-очереди, перебывал Рожков «для исправления», «усмирения»,
«сокращения строптивости», в течение своей трехлетней каторжной жизни.
Наконец, и самому мне лично, — по особому
предписанию, — пришлось увидеть Рожкова, лечить и наблюдать его в лазарете, в течение
около шести месяцев.
Иван Павлович рассказывал:
— Странный, непонятный человек! Сумасшедший,
не сумасшедший, а что-то в нем есть неладное, на других не похожее...
Подумайте: три года его бьют, морят голодом, холодом; били плетьми, пороли
розгами; чего-чего с ним не проделывали, чтобы заставить работать казенную
работу, а он палец о палец не ударит... Так и
—
8 —
по сие время не могут заставить работать. — «Работа не
моя, а твоя; тебе нужна работа — работай, а мне она не нужна... я работать не
буду», — вот и весь его разговор с начальством... Начальству, конечно, обидно
слышать такое от каторжного, да и зазорно перед подчиненными, а главное — пред остальными
каторжными... «Заставим работать!» «Будет работать!..» Да нет, не тут-то
было...
Сначала, как пришел Рожков на каторгу,
бывший заведующий, полковник За — н, испробовал над ним
плети, розги, голод, холод. Не идет Рожков на работу, да и только... Один раз приказал
силою взять, «хоть волоком тащите, а чтобы был на работе... Приеду в разрез,
проверю...»
Разрез, в котором работали каторжные с верхней
тюрьмы, был расположен верстах в четырех от нее. В разрезе снимали поурочно
торф (восемь человек на кубическую сажень торфа) и обнажали золотоносный песок для
промывки. Каторжных летом будят в 4 часа и выгоняют на работу, к пяти. Работа
продолжается до 8½ — 9 ч. вечера. Будят их больше ружейными прикладами,
а то и за бороду тюремный приставник, или смотритель с нар стащит, вот и
разбудит! Очень-то с ними не церемонятся... С верхних нар, что устроены под потолками, над окнами, выгнать бывает труднее:
темно, низко, ползать надо — иной и просидит... Здесь, в каторге,
не говорят: выводить на работу, а «выгонять», — как стадо баранов, — хочешь, не
хочешь — иди! На то каторга... А битвы бывает с ними довольно... Ну, вот
подняли, разбудили в тот день и Рожкова. — Выходи из тюрьмы! На работу иди; в разрез
тебя велено! — кричал смотритель.
— Работа не моя, твоя; мне она не нужна;
ты хочешь — работай!..
Прикладами, толчками, пинками, а больше волоком,
за
— 9 —
руки, за ноги, вытащили его из тюрьмы, через весь
тюремный двор-ограду, за ворота, на улицу, где около ворот собралось выгнанное
из тюрьмы каторжное население, — до 600 человек, и стояло рядами, в четыре
шеренги, окруженное конвоем, с заряженными ружьями, в ожидании счета перед выходом
на работу.
Дотащив волоком Рожкова до начала первой
шеренги, бросили его на землю. Лежит Рожков, не шевелится... Начался и
окончился счет выгоняемым на работу, подали сигнал...
конвой окружил толпу... тронулись!.. Рожков ни с места, так и остался лежачим...
В бешенстве подбежали смотритель, помощник, тюремные приставники, караульный
начальник-урядник — ни с места! Били прикладами, пинками;
за бороду рвали, — лежит, как мертвый... Что тут делать? Время идет, да и
приказ заведующего надо исполнить во чтобы то ни
стало, обещал приехать — удостовериться... Каторжане стоят, посматривают, — что
будет?
Догадались! Принесли носилки, усадили
Рожкова, и каторжные, по очереди, несли его до разреза, версты четыре. Сидел он
смирно и молчал всю дорогу. Донесли и бросили в средине цепи караула, которой
окружается разрез, где производится работа.
Выводимые на работу каторжные,
обыкновенно, берут с собою дневную порцию хлеба — летом 4 фунта, чтобы
перекусить в полдень и выпить чашку кирпичного чаю. В полдень работа
прерывается и дается отдых на полтора часа. Горячую пищу — „баланду" (суп)
— едят раз в сутки, вечером, когда возвращаются с работы. Рожкову было не до хлеба,
когда его выпроваживали из тюрьмы... Четырнадцать часов пролежал он на том месте,
где его бросили, — не ел, не пил. Приезжал полковник З — н удостовериться; ему
один ответ: „Работа не моя, а твоя. Хочешь — работай, мне она не нужна!
Полковник при-
—
10 —
казал тут же дать двадцать плетей. Вытребовали палача
Сашку и отсчитали, избили до полусмерти. — „Пейте мою кровь, ироды, пейте!
подавитесь и сами когда-нибудь!" — Вот его и весь сказ. После работы, избитого, хотели гнать пешком обратно в тюрьму... — „Вы меня
принесли, сам я не шел, — мне не надо итти, вам надо, — вы и несите
обратно!.." — Так и принесли обратно на тех же носилках, да и итти он не
мог, — избит был крепко. Потом посадили его в карцер; в ручные и ножные кандалы
заковали, на хлеб и на воду.
— Однако, он полуумный, сумасшедший
какой-то, господин доктор? Пожалуй, его и бить грешно? — прибавил рассказчик.
— Бог его знает, Иван Павлович, что это
за человек, необходимо близко узнать его и тогда только можно что-нибудь
сказать, да и то едва ли! Одно ясно: невероятное терпение, гигантская сила воли
и душевной энергии... Что-то в нем сидит свое, не чужое, собственной душевной выработки,
за что он готов на истязания, на смерть... А как с ним каторга?
— Каторга? Бог ее знает! Тоже и ту не
скоро разберешь... Слышал я: деньги ему дают на хранение, у кого есть лишний
грош, — не украдет! Смирный, говорят, не ругается; в драку
не лезет... Все молчит больше... Обувь починивает, кому надобность; денег не
берет... В карты не играет, водки не пьет... Каторге что? Ей любо, что нашелся
человек, которого начальство сломить не может; это тоже чего-нибудь значит... „Не
наш" он, — говорят про него...
— Не сердились, не ругались, что заставил
нести себя на носилках?
— На битого каторга
не сердится, г-н доктор! Все битые; а кто не был бит, — побьют!.. Несуразный
человек этот Рожков, да и только. Двадцать лет я с ка-
—
11 —
торгой служу, а такого не видывал и не слыхивал... В лазарете
за два года был один раз; больше в карцере отлеживается...
———
— Анафема, а не человек! вот кто этот „не
наш", — говорил про него смотритель верхней тюрьмы, Одинцов. — Надоел он нам
за эти три года, а все жив, — не околевает! Не развяжет рук... Чорт ему
помогает, должно быть, — не Бог же дал это дьявольское, невероятное терпение...
Издевается, анафема! Стоит перед тобой, как истукан; глазища свои огромные,
черные, уставит; в упор смотрит, как из-под земли смотрит: неловко подчас становится.
Из терпения выведет своими дурацкими ответами: „Работа
не моя, твоя; тебе надо — ты и работай!" — Ну, в зубы ему и закатишь.
Кровь льется, а он все смотрит и смотрит, как выходец с того света! Подлинный
выходец!..
— Смирный какой-то, по
своему, — рассказывал смотритель средней тюрьмы. Другой на его месте и
ножом бы пырнул, — бывало и это! За глотку зубами бы
схватил, а этот только глазищами ворочает, молчит и смотрит. Знаете, доктор,
чего он поговаривает? Ты ему говоришь: „Тебя казна кормит, одевает, обувает, и
ты должен за это работать, казенный хлеб отрабатывать!" А он: — „Казна не
моя, а твоя... Она сама по себе, я сам по себе, — какое мне до нее дело? За что
вы засадили и бьете меня? Я не украл, не убил, не ограбил, не обманывал, не
мошенничал... Я сам по себе, а ты сам по себе... Выпусти! Я прокормлю себя,
воровать не буду... Все здесь ваше, а не мое: вам оно нужно, мне его не надо...
Что не мое, то я делать не буду... Ты сам по себе, я сам по себе, все мы сами
по себе..." — Вот и потолкуй с этим „не нашим", — разведешь руками,
плюнешь да и
— 12 —
отойдешь. Он, этот Рожков, и вправду пришел за
бродяжество: с поселения, в Иркутской губернии, бегал три раза и угодил на пять
лет в каторгу. Откуда он раньше явился на поселение, — не знаю! Его прозвали
„не нашим", потому все говорит „не наше",
„не мое", „твое"... Каторга считает его, пожалуй, тоже не своим, „не
нашим", не подходящим, полуумным, — а уважает.
———
Егор Рожков прибыл на Кару в 1869 году, с
арестантской партией в числе 320 человек.
Управлением Нерчинскими
ссыльно-каторжными наряжена была обычная в таких случаях комиссия из делопроизводителя
управления, карийского полицеймейстера, врача и смотрителя пересыльной тюрьмы,
для приема партии. Прием всякой вновь приходящей партии
каторжных состоял: 1) в детальной проверке казенной одежды, обуви, кандалов,
подкандальников и т. д., числящихся на каждом пришедшем; поверке сроков выдачи,
по особым спискам, прилагавшимся присутственными местами, где производилась в дороге
выдача, к статейному списку; 2) медицинского осмотра для распределения по
работам, по состоянию здоровья, и выделения больных, для изучения, в лазарет;
3) выбор ремесленников, мастеров, сапожников, кузнецов и т. д. для работ в различных
мастерских, и 4) распределение по разрядам сроков каторжных: бессрочных,
долгосрочных, малосрочных — для расселения их по тюрьмам каторги.
В летнее время прием партии производился
вне тюремного здания, даже вне тюремной ограды, по близости тюремных ворот, на
площадке, во избежание смены одежды между пришедшими и содержащимися в тюрьме.
Вызывали по списку, по очереди. Вызываемый подходил к
—
13 —
столу, за которым заседала комиссия, нагруженный своими вещами, и, подходя, обязательно снимал шапку.
— Егор Рожков! — выкликнули по списку.
Отделился из толпы каторжный, выше среднего роста, лет сорока-пяти-семи, с черными,
ввалившимися в орбиты, глазами, черной окладистой бородой и усами; сухощавый,
костистый, с впалыми щеками и немного рябоватый. Подошел Рожков близко к столу,
а шапки не снял.
— Шапку долой, мерзавец!
— закричал на него полицеймейстер.
— Шапка не твоя, а моя, — ровным,
довольно громким голосом проговорил Рожков, — ты хочешь — снимай свою, а я своей не сниму!
Полицеймейстер побледнел; каторжная
партия притихла, как мертвая.
— Что-о-о? Что-о-о ты сказал, мерзавец? Повтори-ка! — вставая со стула, загремел полицеймейстер.
— Шапка не твоя, а моя; ты хочешь — снимай
свою, а я своей не сниму — тем же ровным, громким голосом
проговорил Рожков.
Удар кулаком по лицу свалил Рожкова на
землю, его лицо залилось кровью. Взбесившийся полицеймейстер бил лежачего, пинал, ругался скверными словами.
— Розог! розог! — кричал он неистово, — я
покажу тебе, раз... сын, что значит каторга...
Розги явились и
началась жесточайшая порка... К изумлению всех, истязуемый не просил милосердия,
не молил о пощаде.
— Пей мою кровь, кровопивец, пей! Придет и
на тебя время, издохнешь, собака, — выговаривал, сквозь прорывавшиеся стоны,
Рожков.
Истерзанного, замертво, его бросили в темный
карцер пересыльной тюрьмы.
— 14 —
— Припомню я ему дерзости, — говорил полицеймейстер
взволнованным голосом. — Ему предстоит еще получить двадцать плетей, за побеги
с поселения; приговор должен исполняться здесь, на каторге, вот и бумага об исполнении
в его статейный список вложена...
— Я ему припомню! Плеть не розга, закашляет
со всех сторон!.. — кричал полицеймейстер, не стесняясь партии в 320 человек и
конвоя.
— Терпелив,
анафема, к розгам. Посмотрим, что-то запоет под плетьми.
В статейном списки
Рожкова, действительно, было обозначено: за третий побег с поселения в Иркутской
губернии приговаривается к пяти годам каторжной работы и двадцати ударам плетьми.
Донесли по начальству о дерзости,
нанесенной полицеймейстеру каторжным Рожковым, при исполнении служебных обязанностей.
Вышла резолюция: оставить в карцере, на хлебе и воде. По приведении приговора в
исполнение зачислить в верхне-карийскую тюрьму, с неустанным употреблением в земляные
работы и ни в каком случае не оставлять каторжные (т. е. не назначать на
работы, необходимые в самой тюрьме: каморный староста, баньщик, хлебопек,
парашник и т. д.)
Весть о Рожкове разнесла по тюрьмам та же
партия, в которой он пришел на Кару. Задел за живое дерзкий поступок и всю чиновную
братию, привыкшую к раболепству и полной покорности каторги. Явилось что-то
новое, дикое, небывалое, неслыханное.
— Усмирится! После первых плетей
усмирится! За версту шапку будет ломать, поклоны отвешивать... Таких ли каторга
усмиряла... разбойников из разбойников, душегубов... А
этот кто? Бродяга какой-то! побродяжка! тьфу!
—
15 —
В дико-пьяной чиновничьей жизни Рожков составлял
событие. Канцелярские служители, до чина губернского секретаря (высший чин старшего
по службе, зауряд-хорунжий, зауряд-сотники из писарей), состоявшие на
гражданской службе, чувствовали себя обиженными
небывалою дерзостью.
Три недели, закованный по рукам и ногам,
пролежал Рожков в темном карцере, на хлебе и воде; в лазарет его не клали, а
ходил к нему в карцер, для подачи помощи, фельдшер Иван Павлович.
— Я присутствовал при исполнении
приговора, — рассказывал Иван Павлович. — Арестанты — вся тюрьма — были выгнаны
в ограду в качестве зрителей — для устрашения!
Собралось начальство: полицеймейстер,
смотритель много чиновников пришло, просто полюбопытствовать, чуть не все
собрались. Разговаривают друг с другом, папиросы курят... Пересмеиваются...
Конвой тут с ружьями, палач в стороне, скамейка поставлена по средине ограды,
наклонно к земле... Все ждут... Предчувствовал я, — будет что-то ужасное.
Слышал уже и я, что Рожков отмочил при приходе полицеймейстеру, — тоже
любопытствую. Полицеймейстер маленький, вертлявый,
побагровел от волнения, дожидаясь экзекуции. Привели Рожкова в ручных и ножных кандалах;
шапка на голове... нарочно оставили.
— Шапку долой, мерзавец!
— Шапка не твоя, моя; ты хочешь — снимай свою, а я своей не сниму! — ответил тот громко.
— Ну, г-н доктор, что дальше было, — не
знаю, как и рассказать! все озверели... — «Сашка! рубль на водку!.. два-три! — бей
не на живот, а на смерть... (Сашка был палач)... Запорю самого, если будешь
фальшивить»... Схватили, разложили на скамейку... и н-а-а-ч-а-а-ал же он
—
16 —
бить! мороз по коже, скамейка трясется! Молчит Рожков,
кровь сочится, мясо клочьями висит... — «Кровопийцы! проклятые! подавитесь моей
кровью!» — выговаривает он со стоном... Беда была, г-н доктор: теперь ужасно
вспоминать! А ведь я сотни видел наказаний за двадцать лет. Так и увезли в лазарет
в беспамятстве... Чиновники разошлись; сказывают, и они диву дались, руками
разводили... Да что они? Сашка палач диву дался, — а не то, что чиновники!.. В лазарете
Рожков пролежал очень долго; молчал все больше... молчит и молчит... Доктору,
на расспросы, скажет: «Твое дело, а не мое!» — на том и окончит... Мы, фельдшера,
к нему так, сяк, — нам тоже любопытно! «Твое дело, не мое!» — один у него ответ
был для всех... Так и отстали. Не жаловался ни на что: дадут ему есть — ест! Кажется,
не принеси ему обеда или ужина целую неделю, — просить не будет. Поправляться
начал, похаживать по палате, — все равно! одинаков...
Бывало, — смотришь в дверное окошечко, что он делает? Все равно: лежит или
похаживает. Больным товарищам, отвечает, разговаривает; но его, видимо,
сторонилась и своя-то брата! «С чортом что-ли он знается», — думали про него и... сторонились... Ухаживать
за ним ухаживали больные арестанты: они всегда за
наказанным ухаживают, если могут, конечно. Отлежался; на выписку просится, «место
другому надо опростать, — будет!» Так и выписался...
Потом Рожков пошел по мытарствам, из тюрьмы в тюрьму переводили. Сначала в верхнюю
тюрьму определили, к самому Одинцову: — усмирит! вышколит!.. Ничего поделать не
мог, — а уж он ли не старался! Плети, розги, карцер, холод, голод, — все
испробовал!..
— Работа не моя, твоя; хочешь ты — работай,
а мне она не нужна! — Обидно и смотрителю: все слушаются, все боятся; взгляда
одного боятся! а тут какой-то бродя-
—
17 —
га знать ничего не хочет, да еще „кровопивцем"
обзывает при всех. Пробовал полковник З — н и теперешний заведующий,
Марков, своей властью (им разрешено до двадцати плетей назначать своею
властью) — бить его, неоднократно, — ничего не поделали! Все ту же песню поет и
заведующему: «Работа не моя, твоя!» Бог его знает, как он жив по сие время...
Теперь больше в карцерах сидит, на хлебе и воде, в ручных и ножных кандалах...
В новой тюрьме, у смотрителя Ладыгина, шестой месяц в карцер заперт; так и
сидит по сие время.
———
С понятным любопытством,
а еще более с невольным, в душе, уважением к невероятной выносливости,
железной, непреклонной, гигантской воле, — в силу каких-то сложившихся верований
и убеждений о «вашей» и «нашей» работе, — неизвестного каторжника, подъезжали
мы с Иваном Павловичем на казенной тележке к «новой» тюрьме. Накануне, по донесении
смотрителя Ладыгина управлению ссыльно-каторжными о тяжкой, опасной болезни
Егора Рожкова, я получил предписание: «осмотреть и, если необходимо будет,
положить его в лазарет на излечение». В первые месяцы жизни на Каре, пока я не
знал тюремных порядков и обычаев, Иван Павлович был постоянным моим спутником во
всех служебных поездках по каторге, разбросанной на 30-верстном протяжении по
р. Каре. Бесхитростные рассказы его о прошлой и настоящей карийской жизни, о
каторжных, администрации, горном ведомстве и т. д. были не только занимательны,
но и поучительны для меня... Человек он был простой, без всякого почти общего образования,
с доброй и открытой душой. Нередко он „зашибал", т. е. запивал дня на два,
на три, самое большое на четыре.
—
18 —
Зашибали и все остальные фельдшера лазарета; грешный
человек! — зашибал и я первые пять месяцев пребывания
на Каре... Слишком была необычна и тяжела окружающая обстановка и больно претило
обязательное присутствие, как врача, при кровавых расправах с каторжными по решению
судов, а то и просто без решения, по единоличному назначению заведующего нерчинскими
ссыльно-каторжными — „не более двадцати ударов плетьми"...
Может быть, судьба и простит мне, да и моим сослуживцам, фельдшерам, «зашибание»
— за те муки совести, которые приходилось испытывать при каждой кровавой
расправе!
— Вот и увидите, г-н доктор, Егора
Рожкова, о котором все меня расспрашивали, — заговорил по дороге Иван Павлович,
— каково-то он выглядит? Кажется, месяцев шесть, если не больше, сидит он в одиночке,
на хлебе и воде, да, пожалуй, и закованный по рукам и ногам... Просидеть долгое
время в карцере — добрых плетей стоит!
— Да, интересный человек- этот „не наш".
— Увидите сами и узнаете, что в нем интересного.
Через три четверти часа, мы подъехали к громадному
тюремному зданию новой (нижней) тюрьмы. Тюрьма стояла одиноко, без каких-либо
жилых домов в окружности, — между Нижней Карой и Усть-Карой, — в 5-ти верстах от
первой и 10-ти от последней... Тюрьма была построена,
сравнительно, недавно: лет десять — двенадцать и по новому типу. Фронт ее с окнами,
с железными в них решетками выходил не в ограду, а на улицу. Тюремная ограда начиналась
от крайних ее углов и огораживала только заднюю ее часть, а не все здание. В тюремной
ограде находились арестантская кухня и баня. С левой стороны ограды, саженей на
15 — 20 от нее, был этажный дом, на две половины, с общим
—
19 —
входом посредине, для смотрителя тюрьмы и командующего
сотней офицера. Казачья пешая сотня конвоя помещалась в том же тюремном здании,
в правом крыле, с выходом — крыльцом не в тюремную ограду, а на улицу.
Караульное помещение отделялось от арестантских камер капитальной стеной, без какого-либо
входа из казармы в арестантские помещения.
Мы подъехали к крыльцу смотрительского дома.
Смотритель тюрьмы, канцелярский служитель, А. В. Ладыгин, пожилой, лет 50
человек, невысокого роста, старообразный, сухощавый, с парализованной правой
рукой, встретил нас на крыльце и пригласил в свою квартиру.
— Рожкова изволили приехать
свидетельствовать?
— Да, Рожкова! Вот предписание...
— Знаю, знаю! Я доносил в управление... Плох!
очень плох стал! Побоялся ответственности, как бы не умер... Не ест, не пьет...
Пластом лежит больше недели... Умрет здесь, тогда возись с ним... Неприятности
наживешь...
Канцелярский служака разгильдеевских времен,
обремененный дюжиною детей, по-видимому, не шутя
боялся смерти Рожкова в одиночном карцере, — в неузаконенном месте, и торопил осмотром.
Мы вскоре вышли из квартиры смотрителя и
вчетвером: — нас двое, смотритель и караульный начальник — чрез тюремную
калитку и двор вошли в тюремный корридор. Здание было выстроено покоем и корридор шел, с внутренней
стороны, кругом здания. В конечной части корридора, освещенного одним окном, — в
углу соединения среднего корридора с первым, — были расположены четыре окованные
железом двери, ведущие в карцерные помещения, запертые висячими замками.
Смотритель отворил крайнюю к стене дверь карцера и запах разлагающегося трупа поразил наше обоняние.
В
— 20 —
полной темноте ничего не было видно: слышно было
чье-то хрипение и сопение. Смрад был невыносимый. Принесли зажженную сальную свечку,
и я вошел в карцер. Комната три аршина длины, полтора ширины, направо выходил край
печи, одна на два карцера. Налево во всю длину карцера, нары трех четвертей ширины
свободного пространства между нарами и противоположной стеной три четверти; высота
четыре аршина. Окна не было, в двери — небольшое (с квадратную четверть) отверстие
со стеклом. На полу, у нар, грязная деревянная шайка с экскрементами; пол мокрый,
ослизлый. На нарах хрипел и сопел получеловек, полутруп. Мириады вшей ползали по
лицу, закрытым глазам, по бороде. Лица я не мог разглядеть, да и все остальное
едва видел в темноте, плохо освещаемой свечкой.
— Александр Васильевич! да его вши живого
съели. Вынести его в корридор, в ограду, на свежий воздух!
При помощи каторжных из ближайшей камеры
Рожкова вынесли на свежий воздух.
Синебагровое, раздувшееся лицо, с вывороченными от раздувшихся десен губами; опухшие,
темнобагровые руки и ноги; грязные, изгнившая рубаха, порты и суконные шаровары;
ручные и ножные кандалы; мириады ползающих насекомых — вот что мы увидели при
божьем свете. Гниющая куча хрипела и тяжело дышала.
— В лазарет его сейчас же! Александр Васильевич!
вы его живого сгноили... грешно вам перед Господом будет за такое надругательство,
— невольно вырвалось у меня.
— Я не виноват. Сидел он в карцере по
распоряжению заведующего, я тут не причем! Я донес, когда увидел, что плох становится...
Донес немедля...
— Нужно снять ручные и ножные кандалы. Я,
как
—
21 —
врач, дам вам записку на расковку... Посмотрите, что у
него сделалось с руками и ногами!
Опухшие от цынги руки и ноги не вмещались
в железный ободок оковки, и железо врезалось в распухшее тело. Руки и ноги
побагровели, были все в язвах серо-грязного цвета. Вши копошились около оковки
и ползали по язвам. Немалого труда стоило кузнецу расковать оковы. При
расклепывании долотцо срывалось и резало тело; сочилась кровь. Грязные, изгнившие
рубаха, порты и шаровары составляли все одеяние; ноги были босы. Принесенные из
карцера шапка, шинель, которые служили постелью, подушкой и одеялом, были
пропитаны экскрементами... Вообще, Рожков представлял из себя
разлагающийся труп...
— Принесите новое белье, шапку и халат, а
все это сжечь тотчас же, — распорядился я.
Больного кое-как очистили, переодели и
уложили на солому, настланную в телеге. Мы с Иваном Павловичем тоже уселись в свою
тележку и шагом поехали за больным.
— Иван Павлович! как
по-вашему называется подобное содержание в карцере? — спросил я. — Ведь это уже
беззаконнейшее истязание, а не наказание... Ведь даже во рту вши ползали... Часто
видели вы здесь что-нибудь подобное?
— Однако, плохо дело Рожкова, — ответил Иван
Павлович уклончиво.
Я испытывал прилив негодования и злобы. В
лазарете Рожкова обмыли в ванне и уложили на лазаретную койку.
Представив заведующему исполнительный
рапорт, в котором было описано подробно, в какой обстановке, положении и состоянии
найден больной, — я прибавил,
—
22 —
что подобное содержание должно было признано истязанием.
Ответа или специального приказа по каторге не последовало.
Месяца через два пребывания на лазаретной
кровати, начал вырисовываться человеческий облик Рожкова. У него была высшая
степень цынги: кровоточивые десна безобразно распухли, зубы шатались, по всему
телу были цынготная опухоль и подтеки. Постепенно, однако, все это уступало
усиленному питанию, свежему, по возможности, воздуху, может быть, лечению и
уходу, а по всей вероятности также, — железному складу больного.
Он не стонал, не жаловался, ничего не
просил, как часто делали другие больные; а лежал молча, угрюмо, с закрытыми по
большей части глазами. Затем он стал садиться на кровати, опустив ноги на пол.
При одной из визитаций по лазарету, осмотрев и поговорив с больным, лежавшим рядом
с ним, с правой стороны, — я подошел к кровати Рожкова.
— Что, Егор, лучше себя чувствуешь?
Поправляешься помаленьку?
— Это дело не мое, а твое, — ты на то
доктор! Хочешь смотри, хочешь нет, твое дело! Смотри, коли надобность есть! — И он отвернулся.
— Извини, брат, что спросил тебя о
здоровьи! Верно ты говоришь, на то я и доктор, чтобы не
беспокоить больных понапрасну.
И я отошел к следующему больному. В душе
меня крепко кольнуло от неприветливого ответа и даже в глазах защекотало
что-то. В последующие посещения больных, к Рожкову с расспросами я уже не
обращался. Осмотрев и поговорив с рядом лежавшим больным, останавливаясь у
кровати Рожкова, я спрашивал у дежурного фельдшера:
—
23 —
— Вино, молоко получал? Не жалуется ли на
что? Не мало ли пищи? Съедает ли порцию? — И затем я переходил к следующему
больному, присаживался на кровати, осматривал, расспрашивал.
Так прошло недели две. Рожков начал похаживать,
опираясь на палку, по палате, видимо поправляясь и делаясь бодрее. Пищу ему
переменили — перевели на мясную: молоко и водка остались по-прежнему.
В одно из вечерних посещений, поговорив и
осмотрев рядом лежавшего больного, который тоже поправлялся и поднимался уже с постели,
я, по обыкновению, спросил фельдшера о Рожкове и перешел к следующему, как вдруг
услышал вопросы:
— Что же меня-то обходишь?
Я быстро обернулся к спросившему...
На меня глядели в упор два черные, бездонные глаза, — именно, «как из-под земли»,
и едва уловимые проблески веселости, скорее юмора, легкого подтрунивания — искрились
в них... Лицо было бледно, спокойно, неподвижно.
— Извини, ради Бога! Но ведь ты не
любишь, когда тебя расспрашивают...
— Не любишь и любишь само по себе...
— Поправляешься, Егор? Каков твой аппетит,
сон? Не нужно ли прибавить чего к порции?
— Спасибо! Похаживаю... Прибавлять ничего
не надо... Будет! Водку убери!
— Очень рад! очень рад! Поправляйся...
поправляйся... плох ты был... Поправляйся... — я говорил бессвязно;
до того неожидан был для меня этот первый человеческий разговор с Рожковым,
начатый вдобавок им самим. — Присесть на кровать можно?
— Садись! Чего спрашивать? Кровать не моя,
твоя...
— Не моя
кровать, Егор, казенная.
— Все равно!
садись!
—
24 —
Я осмотрел его подробно; выслушал и
выстукал в первый раз с тех пор, как он стал относиться сознательно и разумно к
окружающему. Все было в порядке и выздоровление было
несомненно.
— Отлично, Егор! Здоров будешь! Верно тебе говорю...
— Здоров? Ну и ладно!
На этом мы и расстались в тот вечер.
В моей серенькой, одинокой, угрюмой и
однообразной жизни вечер этот показался очень хорошим. Возвратившись в свою
несуразную комнату с железной решеткой в окне, я не замечал ее убогости и
неприглядности. Чем-то особым повеяло на меня от этого маленького эпизода,
человеческим и добрым.
Собрались сослуживцы-фельдшера: Мельших,
Морозов, Шатель, Долинин и Васильев, и все дивились, что Рожков заговорил, сам начавши разговор.
Один из фельдшеров, впрочем, подыскал объяснение:
— Извините, г-н доктор, — сказал он, — но
ведь и вас каторга считает юродивым, блаженным... Не взыщите: не я выдумал,
слышал много раз...
— Пусть считают, как хотят, — подумал я...
— Ну что-ж, пусть юродивый, только бы в одну кучу не
складывали с остальными...
С больными, в палате, Рожков в разговоры
почти не вступал и держался одиноко... Лежит, бывало, целыми днями на кровати,
на спине, заложивши обе руки под голову, — и смотрит в потолок. Но со мной
после этого первого случая стал разговаривать. Правда, он был все-таки очень
сдержан, сам разговора не начинал, на вопросы отвечал неохотно, с большим раздумьем;
подчас, пожалуй, пренебрежительно: «отвяжись,
—
25 —
дескать, что вяжешься». Бывало и вовсе не ответит на
вопрос.
И все-таки современен мне
удалось, до известной степени, схватить сущность его взглядов, определявших
его поведение.
— Я сам по себе, ты сам
по себе, то есть я живу по своему, как сам хочу; как думаю, так и живу, а не
как прикажет кто-либо другой, посторонние — не я. Живу не по приказу, не по указу... Сам Бог повелел так
жить людям издревле... раститеся и множитеся и наполняйте землю, повелел Он...
Не повелел Он поклоняться, подчиняться другому, себе подобному, равному... Всякий
сам по себе живи! Так жили долго древние люди... Потом пошли указы и приказы
Моисеевы: живи, делай вот так, как он хочет... А я не хочу, и не буду по
приказу его, он такой же, как я, — один Бог сотворил! Я хочу сам по себе; воли
ему не дано указывать мне... Я вольный душою и телом: живу, как думаю, делаю,
что желаю... Ты вот наемник, — не делаешь «сам по себе», а что тебе прикажут...
Я знаю: чуть не плачешь, когда видишь, как бьют человека плетьми, — а все-таки
идешь... Я бы не пошел! Выходишь ты наемник, — не сам по себе... Больных лечишь,
убиваешься, — а какой толк? Вылечишь — в тюрьму
усылаешь и опять лечишь... Не правильно это! Доброты мало: надо делать так, как
думаешь... Я не ваш, и ты не наш... Убить, ограбить, украсть, обмануть,
оклеветать — грех! Другому вред, другой жить хочет, — всем места
хватит!.. всякий сам по себе живи! Я не обманываю: говорю, делаю, что
думаю, — вреда никому нет! Шапка не твоя — моя, — хочу
сниму, хочу нет, — моя воля! Другой тоже сам по себе, — как думает, так и
делай, его воля — снимать или не снимать... Для другого худа
или вреда в моей шапке нет... Им надо по-своему, мне по-своему... Вреда бы не
было от
— 26 —
этого!.. Им надо золото, мне не надо; им надо деньги,
мне не надо, — вреда от этого нет никому... Им надо подати, паспорты, — мне и их
не надо... Им надо работу, — работа не моя, — пусть они и работают... что им надо,
— мне не надо, — кому тут вред? Они заперли меня под замок, бьют, заковали, — их
сила. А все-таки они сами по себе, а я сам по себе... Моего
им не отдавал и не отдам... Я не убегу от тебя или от караульного — вам вред сделаю,
вреда не надо... Ждать буду, когда срок окончится, — уйду без вреда! Жена есть,
дети — они там, далеко!.. На что тебе? Они сами по себе... Все мы сами по
себе...
На шестом месяце поступления в лазарет,
Рожков выписался по собственному желанию. Я уговаривал его отдохнуть еще,
окрепнуть; но он отказался наотрез.
— Выпользовался; здоров; чего буду
валандаться? Другому место загораживать? Спасибо за
труды!
Подействовала ли продолжительная,
тяжкая болезнь Рожкова или рапорт мой, с описанием ужасного состояния, в котором
он находился при медицинском осмотре в карцере, или что-либо другое, — только
его в карцер не посадили, в работу идти не неволили, а поместили в общую арестантскую
камеру Средне-Карийской тюрьмы, заковав, однако, в ручные и ножные кандалы.
Как малосрочный каторжный — бродяга, осужденный на пять лет, он окончил уже срок испытания
и должен бы быть переведен в разряд исправляющихся, с правом жить вне тюрьмы и
с обязательством выходить на все работы, до окончания срока. Но в виду упорства
и нежелания работать, его содержали постоянно в тюрьме и не аттестовали
достойным перевода в другие разряды. В течение последующего, — 1873 года, — жизнь
Рожкова была, сравнительно, более легкой: на него, как говорится, махнули рукой
и оставили в покое — в ручных и нож-
—
27 —
ных кандалах, в общей
арестантской камере. Да и смотритель Средне-Карской тюрьмы, Д. И. Барила, был человек
более гуманный, толковый и понимающий.
Много раз, после выздоровления Рожкова,
приходилось видеть его, посещая тюрьмы по обязанности службы.
Он смотрел, по-прежнему, угрюмо и на
вопросы отвечал нехотя, если я был один, или совершенно не отвечал, когда я
входил со смотрителем или караульным начальником.
Сидит, бывало, на нарах, в своей
неизменной, истасканной шапке на голове и при входе начальства не подымается и не снимает шапку.
В приезд на Кару его императорского высочества,
великого князя Алексея Александровича, в июне месяце 1873 г., Рожкова упрятали
с глаз, чтобы не нажить каких-либо неприятностей при случайной встрече высокого
посетителя с неисправимым каторжным. По отъезде его высочества, Рожкова опять
поместили в общую камеру, не снимая оков...
В конце того же 1873 г., карийская
тюремная администрация, с полковником Марковым во главе, почти поголовно была
отдана под суд за воровство и грабительство и хищения, последствием которых явились
одновременно эпидемии цинги и сыпного тифа, унесшие в могилу до 800 человек. По
суду, полковник Марков был лишен всех прав состояния и сослан в Якутскую
область на поселение.
В сентябре 1873 г. прибыл на Кару новый
начальник, подполковник В. О. Кононович. Глубоко честный, гуманный и
образованный человек, редкое явление в сибирской чиновничьей среде. Каторга
увидела новые, небывалые порядки.
Узнав подробно обстоятельства каторжной
жизни Рожкова, новый начальник повидал его в тюрьме; получил
—
28 —
те же ответы, как получили и другие спрашивавшие;
приказал расковать и содержать на общем основании, не приневоливая к работе.
В 1874 г. окончился пятилетний срок каторжных
работ Рожкову и он были уволен на поселение, с причислением
в одну из волостей Забайкалья.
В 1892 г., состоя на службе в г. Чите,
совершенно случайно узнал я о смерти Егора Рожкова, „дедушки Егорушки из не наших", как его мне рекомендовали. Рожков умер в той же
Чите, в 1885 г., сгорбленным, седым, дряхлым с виду стариком, проживая с товарищем
поселенцем у вдовы чиновницы Н — ой, в ее небольшой отдельной кухонке.
Занимался Рожков, — по рассказам хозяйки,
— клеением коробочек, выливанием из олова крестиков, колечек, плел он также
корзинки и продавал все это на базаре, чем и питался. Старик страстно любил детей
и постоянно покупал им лакомства на последние свои крохи.
Дети так и обращались к нему: «Дедушка
Егорушка не наш, дай конфеточку!»
— Дам, дитятки, дам родные, — много дам!
вот только сработаю крестики и продам на базаре! — утешал старик детишек шамкающим
голосом.
— Хороший, тихий старик был Егорушка, — рассказывала
хозяйка. — Долгонько прожил в моей кухонке, на отделе,
— жил с товарищем. Плату вносил исправно. Все сидит, бывало,
дома, ковыряет чего-нибудь; коробочки клеит; крестики, колечки выливает, — большой
искусник был выливать, покойный! Ребята сидят с ним, смотрят на работу.
Ребята его очень любили; баловник был большой, да и ласковый для них. «Дитятко
родимое! да дитятко родимое»! А ребята, известно, и лезут на ласку. Вижу, надоедают
ему, прикрикнешь, а он ничего, еще
—
29 —
больше ласкает их. Чудной старик был! Попов не любил;
чиновников тоже... С взрослыми мало разговаривал, все с ребятами... Водки не
пил, табаку не курил... Убогой он был: все кашлял; кровью харкал... худой был как
скелет. В больницу не шел: — «Не надо! Другим нужнее!» Товарищ его все настаивал,
чтобы он исповедался и причастился: «Не надо! — говорит» — и так место
найдется!» Откуда он появился, не знаю, а умер, хлопот наделал!.. Была у нас тогда
простота в Чите: билетов, паспортов хозяева не спрашивали, нанял — живи, благо смирный, да не озорной. Так он и жил у меня, никому не мешал,
работал по-своему. Умер скропостижно; встал, пошатнулся; оперся рукой на девочку,
тоже жиличку, лет десяти, — та испугалась, закричала... Было это в четверг, на
последней неделе Великого поста; белили тогда у нас в доме... Оперся на девочку,
охнул; потом на ленивку оперся — и дух вон! Хлопот было много! Оказался беспаспортным;
товарищ его с билетом, а у него билета не было. „Не наш" и правду оказался...
Я думала его в шутку ребята не нашим дразнили... Вот тебе
и Егорушка дедушка!.. Дай Бог здоровья полицеймейстеру Попрядухину; добрый был человек:
погуторил, погуторил, да и устроил подписку, чтобы схоронить дедушку Егорушку,
— медного расколотого гроша после его не осталось... Так и похоронили!..
Ребята, те убивались по нем, плакали: — «Нет дедушки Егорушки,
— умер. Наш был дедушка, а не ваш!»
В. Кокосов.
———
Как-то в летний день я возвращался из Петербурга
по Балтийской железной дороге на дачу. Ехал я в вагоне III класса, битком набитом преимущественно публикой
серой, не дачной; были тут подгородные мужики, солдаты, прислуга, приказчики,
из интеллигентов было только двое студентов, сидевших у самого входа в вагон.
Разговор завязался довольно скоро и, так как он коснулся всех тогда волновавшего
столкновения на Кушке, то в нем приняли участие почти все пассажиры. Толкуя о
причинах столкновения наших войск с афганцами, участники беседы единогласно
осуждали «англичанку», которая, по газетным известиям, своими интригами подняла
против нас азиатов. Некоторые особенно возмущались тем, что «англичанка» так нехорошо
поступает, хотя она «нам родная»... Вдруг среди этих довольно однотонных толков
раздался совершенно неожиданно голос в пользу «англичанки»:
— Нет, господа, неправильно вы говорите:
«англичанка» против нас почти что совсем не виновата.
— Как так не виновата? А кто же виноват по-вашему? Уж не мы ли сами виноваты, что на нас напали?
С этими вопросами со всех сторон обратились
к человеку, помещавшемуся в углу и решившемуся защищать «англичанку». По
наружности этот человек ничем особенно не выдавался: лет пятидесяти, одетый в
—
31 —
теплое пальто и фуражку, он походил на мелкого торговца;
выражение лица было какое-то вялое, флегматичное, но эта вялость совсем стушевалась,
когда он заговорил, и видно было, что вмешался он в разговор потому, что был задет
за живое его содержанием.
— И мы не виноваты, — отвечал он своим оппонентам,
— да и «англичанка» ничего дурного не сделала. Она, правда, нам родная и любит нас.
Да и не может иначе быть, потому что царская сестра замужем за ее сыном. Она
всегда рада с нашим государем быть заодно, да мешают ей ихние
английские господа. Взяли они себе всю силу в государстве, да и делают, что
хотят. Как понадобятся англичанке деньги, они ей не дают. Вот и приходится ей,
бедной, их во всем слушаться.
Такое объяснение конституционных отношений
вызвало в слушателях симпатии к королеве и негодование против английских господ,
которые идут против нас. С этой темы разговор незаметно перешел вообще на
иностранцев: стали говорить, что иностранцы сильно вредят русским, и не только
в международных отношениях, но и в домашних наших делах: немцы, англичане, жиды притесняют нас, захватили всю торговлю. Русские все
беднеют, а на их счет наживаются немцы и жиды, и
некоторые из собеседников приходили к весьма решительным заключениям относительно
немцев и жидов: их надо бить, выгнать из России, в крайнем случае — отнять у
них некоторые права. В самый разгар этих человеконенавистнических заявлений
снова послышался протест из того же угла.
— Нет, и это вы неправильно говорите! Нельзя
немцев и евреев гнать, бить и притеснять!
— Да что же это вы всех защищаете? Разве
они-то нас не притесняют? Разве легко нам жить с ними? Пусть уходят, откуда пришли!
—
32 —
— Ишь вы! пусть
уходят!.. Да куда же им итти-то? Ведь если они к нам пришли, значит, им дома есть
нечего, и их пожалеть надо, а не бить и притеснять.
— Тоже жалеть! Да из чего жалеть, когда
самим нам есть нечего?
— Нехорошо, что вы говорите. Жалеть человека
всегда надо, — так нам Христос велел. Если других не пожалеем, и нас никто жалеть
не станет, и всем будет худо. Надобно жить всем по любви и другим помогать.
— Да как же помогать, коли
сами бедны?
— Нет, не бедны мы, и земли и всякого богатства
Бог нам много дает, и пусть все к нам приходят, пусть пользуются. Так Богу
угодно, и нам всем будет лучше, как по-братски заживем и с немцами, и с жидами. И жид ведь тоже человек, и нельзя
жида бить, как это два года тому назад было. И ему помочь надо! И наши бывают такие, что хуже всякого жида; не даром пословица
говорится: не тот жид, кто еврей, а тот жид, кто жид.
— Послушайте, ведь вы же знаете, что немцы
нас на работе притесняют, что немцы везде хорошие места заняли, что жиды из нас
все богатство вытянули, что из-за них мы стали совсем почти
нищими.
— Правда, знаю, что и они нас притесняют,
да не так уж сильно, как вы говорите. А что притесняют, так это, пожалуй, для
нас и хорошо. Вот я вам к примеру расскажу, как со
мною было. Был я при государе императоре Николай Павловиче в кантонистах. Строгие
у нас тогда порядки были: за всякую мелочь иной раз очень тяжело отвечать
приходилось. Не то, что днем, а и ночью порядок соблюдать требовалось: на спине
не лежи, не раскидывайся, лежи, как полагается. Вот, как я поступил, так приучиться
к порядку очень было труд-
—
33 —
но. Спасибо, старший брат со мною был, он мне помогал.
Бывало, днем зазеваешься, а он ничего не говорит, только кольнет в бок булавкой,
— ну, и опомнишься, придешь в порядок. Да и ночью он смотрел: как заметит, что
сплю не по правилам, сейчас в бок булавкой, — ну, и придешь опять в порядок.
Так-то он меня два года учил, покамест не стал я все
делать по положению, покамест не пришел в порядок совсем. Вот таким манером и
немцы с жидами нас колят затем, чтобы мы в порядок приходили.
Уж это от Бога так устроено, чтобы все человеку было на пользу. Кажется вам,
что они вас притесняют, а они вам же добро делают, вам помогают, чтобы в порядке
были.
— Что же, по-вашему, пожалуй, выйдет, что
и то хорошо, когда на нас враги нападают?
— Не совсем это, конечно, хорошо, а тоже
ведь надо подумать, что и в этом, может, что хорошее найдется. Ведь все же это
от Бога, а Бог ничего нехорошего сделать не может. Бог добр, Он об нас всегда
думает!
— Да все-таки
какая же нам польза от того, что на нас враги нападают?
— А вот послушайте, как я думаю, какая будет
польза. Ведь теперь повсюду войны и всякое несогласие, и это нехорошо, потому
что много людей убивается. Нужно, чтобы везде было
обоюдное согласие. А как это устроить? Когда же будет такое обоюдное согласие? Для
того, чтобы это согласие народилось, нужно, чтобы
каждый народ взялся, чтобы он был побежден, покорился бы под власть врагов. И
все народы возьмутся, да и Россия возьмется, — без этого нельзя. Только не
надолго Россия возьмется, всего на полчаса, а потом и встанет, и устроит
обоюдное согласие.
На этом разговор оборвался, так как мы под-
—
34 —
ехали к станции. Уходя, я спросил нашего оригинального
идеалиста, кто он; — оказалось, что его зовут Петром Васильевичем Таскиным, а
по ремеслу он сапожник, и по железной дороге ему приходится ездить довольно
часто, так как он отвозит заказы в Петербург, в большой магазин, для которого постоянно
работает.
Человек этот меня заинтересовал до
крайности, в его речах слышались мне и весьма распространенные в то время мессианистические
идеи о высоком призвании России, высказывавшиеся Ф. М. Достоевским, и христианский
идеализм народных рассказов гр. Л. Н. Толстого, и, пожалуй, даже до некоторой
степени учение о непротивлении злу. Но откуда же у этого старика из кантонистов
все эти идеи? Неужели он знаком с произведениями Достоевского и гр. Толстого?
Если нет, то не является ли он представителем какой-нибудь новой, неизвестной
еще секты? Любопытство мое было сильно возбуждено, но найти разрешение этих вопросов
я долго не мог... Но вот более месяца спустя после описанной беседы, садясь в вагон,
я очутился против хорошо запомнившейся мне физиономии Петра Васильевича.
Поздоровался я с ним, — он меня не узнал сразу,
но потом мы разговорились, и напомнив ему его рассуждения
об иностранцах и о войнах, я спросил его, не читал ли он Достоевского или
Толстого. Оказалось, что Достоевского он совсем не знает, никогда о нем не слыхал, а из сочинений гр. Толстого читал один лишь рассказ «Чем
люди живы?», да и тот не особенно хорошо сохранился в его памяти.
— Откуда же у вас такие мысли? — спросил я.
— Как откуда? Очень просто. Разве в Писании
всего этого нет? Зачем же и Христос приходил на землю? Ведь Он учил нас, что мы
должны любить друг друга, что мы все друг другу братья. И немец мне брат, да
—
35 —
и еврей, хотя он во Христа и не верует. Будем мы его
любить, как брата, и он станет таким же христианином, как и мы.
— Однако, Петр Васильевич, ведь не все же
христиане так думают, как вы? Вы православный или старообрядец?
— Вот, когда меня так спрашивают, право,
не понимаю, о чем говорят. Что значит «православный»? Если это такой человек,
который верует в то, чему учил Христос, так я, конечно, православный; а если
еще к Христову учению что прибавляется, так это для меня ничего не стоит. Старообрядцем
я никогда не был и не буду. Не все ли равно Богу, как я буду креститься, двумя
пальцами или тремя? Да нужно ли Богу, чтобы я как-нибудь крестился? Не все ли
равно, читаю ли я молитвы по-православному или по-старообрядчески, или молюсь
совсем по-своему?
— Петр Васильевич, знаете ли вы пашковцев?
Не соглашаетесь ли вы с ними?
— Вот что я вам скажу, если уж вам так хочется
знать, к какому я принадлежу согласию. Я — сам посева, верую так, как сказано в
Священном Писании, как учил нас Христос, и никаких прибавок знать не хочу. Много
перевидал я разных вер, толковал я и со нашими попами,
и с старообрядцами, с поповцами, и со всякими беспоповцами, и пашковцев знаю, и
духоборцев видел, и у немцев об их вере спрашивал. Толковал я и с господами,
которые совсем в Бога не верят, и евреев расспрашивал, как они верят, и татар...
И ни у кого-то нет настоящей, полной правды. У всех есть немножко правды, все верят
в то, что говорил Христос, и евреи и татары в это верят, — а только все своего прибавляют. Иные прибавляют такое, что от него ни
худо, ни хорошо не делается; а иное бывает
—
36 —
совсем вредное. Как быть, с попами или без попов, — от этого вера не
портится; все равно для христианства и как молиться, в землю кланяться или же в
пояс. Тоже для веры это ничего. А вот большой вред для веры, когда все начинают
враждовать между собой, из-за всякой мелочи друг друга клянут, друг друга знать
не хотят, а еще и притесняют одни других, как только им сила в руки попадет.
Все это от антихриста и от диавола.
— Значит, вы и сами клянете тех, кто не по-вашему, если говорите, что их взгляды от антихриста и
диавола.
— А совсем нет! Как же вы плохо меня понимаете!
— Да как же вас понимать?
— А вот как! Диавол-то ведь не с рожками,
и не живой какой бес, на самом деле он не существует, да и антихриста нет,
чтобы он был в роде какого-нибудь человека. Это надо
понимать совсем духовно: и диавол, и антихрист есть в каждом
человек, и в вас есть, и во мне. И каждый человек со своим диаволом и
антихристом должен бороться, да и борется всегда, потому что если перестать с ним бороться, так сейчас же и погибнешь. А
бороться надо христианским духом. Надо всех любить, надо помнить, как сказано в
Писании: «несть эллин, ни иудей..., но всяческая и о
всех Господь». Верно, Господь о всех заботится, Он и
для немца, и для еврея, и для православного, и для старообрядца один и тот же.
Всех Он любит одинаково, хочет, чтобы все друг друга любили, и печалится, если
люди по пустякам между собою ссорятся, если из-за двух или трех перстов одни других
проклинают, одни на других и смотреть не хотят. Для Бога никаких еретиков нет.
Если человек исполняет верно две заповеди Христовы, он
все делает, что только нужно.
—
37 —
— Ну, а как вы сами относитесь к тем,
которые думают не по-вашему?
— Да как? жалею их, что ошибаются, стараюсь
им растолковать настоящую христианскую правду, а люблю их всех одинаково.
— А как же их заставить верить правильно?
— Что это вы говорите! Как же можно кого-нибудь
заставить верить? Силой никого к вере не приведете. Если и скажет кто-нибудь от
страха, что поверил по-вашему, так разве это будет правда?
Нет, в таком человеке диавол говорит. Вы сами в нем вызвали диавола и
антихриста, и они „лжу глаголят". Нет, силой вы людей не к вере приведете,
а только в тяжкий соблазн введете. Большой грех творит, кто хочет заставить
других веровать по-своему.
— Ну, а если люди упорствуют в заблуждении?
— Ну, а позвольте вас спросить, кто по-вашему будет сильнее, диавол или Христос?
— Конечно, Христос.
— Ну, то-то же! И как же вы после этого
не сообразите, что упорствует человек от сидящего в нем диавола с антихристом? И,
конечно, обоих их Христос должен победить. Только если вы с ними хотите
бороться, так и идите на борьбу с Христом вместе, а не с диаволом; значит, к упорствующему
человеку идите с любовью, с христианским духом, а не с силою, с диавольским духом.
Неужели вы думаете, что христианский дух не победит? Нет, только христианский дух
и победит, а когда эта победа будет, тогда и будет едино стадо и един пастырь,
будет всяческая и о всех Господь. И немцы, и татары, и
евреи, и православные, и поповцы, и беспоповцы, и пашковцы перестанут проклинать
друг друга из-за пустяков, полюбят друг друга, скажут: „друг друга обымем"
и будут все любить одного Бога.
—
38 —
На этом кончилась наша беседа, мы вскоре
расстались, а после мне уже не приходилось встречаться с этим интереснейшим
идеалистом, с этим человеком, который выработал удивительно стройное
миросозерцание „сам по себе".
Проф. А.К.Бороздин
История одной русской секты
I.
Уже более года тому назад я получил
письмо, из которого привожу следующую существенную выдержку:
«Осмеливаемся беспокоить вас оказать вашу
искреннюю любовь и сожаление к двум страдальцам, которые невинно страдают:
первый — Кондрат Алексеевич Малеванный, который одарен Духом Святым возвещать
новую и святую жизнь во Христе Иисусе и который и
увещевал и говорил только одни святые дела, открывая всякому человеку правду и
мир и любовь Божию, так что в нем не было никакого недостатка, а только была
любовь и истина. Он, бывший мещанин Киевской губернии, города
Таращи, совершенно напрасно страдает около десяти годов. Второй —
крестьянин Казанской губернии, Степан Чекмарев. Они оба посажены в городе
Казани в большом каменном доме, доме умалишенных, или же душевно-больных,
с которыми начальство поступает не по-человечески, а по-зверски. На свидание не
допускают никого, даже и родных, и писем никаких не допускают и
вспомоществований на подкрепление плоти не допускают. Мы с
своей стороны ничего не можем содействовать, потому что наши слезы никуда не
принимаются...»
Крайне сожалею, что разные сложные
обстоятельства моей жизни не позволили мне тотчас же дать ход этому делу.
—
40 —
Не в оправдание, а в объяснение этой
допущенной мною отсрочки, скажу, что желание написать об этом сколько-нибудь
основательную статью заставило меня начать собирать необходимые сведения, вести
переписку и потому отложить на время исполнение этой просьбы. В течение этого
времени в заграничной и русской печати появились помимо меня некоторые сведения
о заключении Малеванного, так что первая цель публичности была уже достигнута. Наконец, теперь мне удалось устранить некоторые препятствия личной
жизни и взяться за перо с одним утешением, что «лучше поздно, чем никогда»
исполнить долг своей совести, сказать сердечное слово защиты за одну из
многочисленных жертв церковно-государственного порядка и русского общественного
равнодушия к одному из самых сильных прогрессивных явлений народной жизни, к
религиозному движению, так называемому сектантству.
Имя Кондратия Малеванного мне было
знакомо уже давно. Я слышал о волнениях в Киевской губернии, произведенных
проповедью этого человека, слышал несколько рассказов о сильном влиянии
личности его, слышал о признании его и его единомышленников, ученым психиатром
Сикорским, сумасшедшими и, к сожалению, не мог тогда подробно ознакомиться с
этим делом.
Недавно, то есть уже
более 10 лет после появления Малеванщины, я снова услышал это имя в связи с
новыми явлениями сектантской жизни, и оно снова возбудило во мне интерес к этим
людям, и я ждал только случая, чтобы познакомиться ближе с ними и разъяснить
себе многие темные стороны этого явления, как мне казалось, умышленно
затемняемого правительством и церковью. Вышеприведенное письмо натолкнуло меня на изучение этого вопроса, и
вот что мне удалось узнать.
—
41 —
II.
Явление Малеванщины не новое в истории
русского народа. Насколько позволяют проникать исторические записи в эту темную
область истории, в жизнь русского народа, мы видим везде народных учителей —
праведников, проповедников новой веры, большей частью запечатлевших
мученической кончиной свою проповедь.
И потому мы не можем описывать
Малеванщину, как явление необычайное, случайное и болезненное, а напротив, как
вполне естественное проявление духовного развития русского народа, хранящего в
недрах своих такие могучие духовные силы, о которых сильные и мудрые мира сего
имеют лишь слабое и превратное понятие.
Исследователи сектантства любят искать
причину возникновения его в иноземном влиянии, в экономических бедствиях, в
политическом угнетении и других внешних влияниях, обходя всеми способами
внутреннее, простое основание этого явления, стремление к свободе человеческого
духа, тем самым обреченного на борьбу света с тьмою.
Борьба бывает двух
родов: борьба разрушающая, уничтожающая, отрицательная, борьба смерти, насилия,
лжи и тьмы, и бывает другая борьба, борьба творящая, положительная,
восстановляющая, борьба жизни, правды и света.
Росток зерна, просыпаясь к жизни,
разрывает окружающие его оболочки, скорлупу или шелуху зерна, и эти разрушенные
части сгнивают, а росток поднимается к свету и развивается в роскошное
растение. Так совершается всякая жизнь.
Но неразумные люди, видя разрушенные
оболочки ростка и не замечая таинственной творческой силы произрастающего
зерна, вообразили себе, что они могут сами начать разрушение и этим ускорить
рост жизни, но ра-
—
42 —
зорвав грубыми руками оболочки зерна, люди обнажают
еще не готовый росток жизни и убивают его.
Так губят люди жизнь, предаваясь
разрушительной деятельности, на нее направляя силы своего разума, забывая, что
для того, чтобы сохранить жизнь и возрастить ее, нужно вложить в нее все силы
своего духа и предоставить разрушительное действие времени, которое исполнит
это когда нужно. И это разрушение и уничтожение
ненужных частей прошлой жизни, являющееся только как неизбежное последствие
рождения к новой жизни, будет вполне законно, то есть разумно.
Положительная борьба, дающая благо
человеку, ведущему ее, и всему миру, есть ни что иное, как непрерывное, никем
не слышимое развитие творческой силы жизни. А люди, принимая за жизнь
неизбежные разрушительные последствия деятельности творческой силы, с
ожесточением предаются такого рода борьбе, начинают служить насилию и обману, и
последствия этой борьбы бывают ужасны.
Но «свет во тьме светит
и тьма не может его объять». И потому борьба творящая победила борьбу
разрушающую.
Еще древние народы Востока ожидали
избавителя Мессию, и пророки так возвещали пришествие его:
«Се отрок Мой, которого Я избрал,
возлюбленный Мой, которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на него, и
возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на
улицах голоса Его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не
угасит, доколе не доставит суду победы. И на Его будут уповать народы» (Мф. 12,
18—21)
В борьбе, ведомой такими руководителями,
есть два характерные признаки: первый признак — это необычайная жизненная сила
движений, вызванных подобной борьбой,
—
43 —
и признание народом праведности подобной борьбы и
божественного происхождения ее вождей. Другой характерный признак — это
презрение так называемого высшего общества, правящего, ученого и вообще
угнетающего общества к такого
рода борьбе и вызываемому ею движению в народе.
Вот к такого-то рода борьбе положительной и относится русское сектантское
движение, за немногими исключениями, как всегда лишь подтверждающими общее
правило и которым легко найти естественные причины.
Не вдаваясь в этом нашем кратком очерке в
подробную историю русского сектантства и раскола, мы скажем вкратце, что ко второй
половине прошлого столетия в так называемой «православной России» можно было
заметить следующие большие, народные, многомиллионные группы, ничего не имеющие
общего с православной церковью:
На северо-востоке преобладает сектантство
староверческое, раскол, которое своим могучим вековым самоотверженным и большей
частью пассивным сопротивлением церкви и государству отвоевало себе свою
веру, свое гражданское устройство, конечно, купив все это ценою
многочисленных и мучительных жертв.
На юго-востоке распространены различного
рода молоканские толки, в начале прошлого столетия
выделившие от себя ветвь духоборчества, хлыстовства и других. На юго-западе
распространены различные толки Штунды, уже само название которой указывает на возможность некоторого иноземного
влияния.
Северо-запад России занят, как известно,
инородцами, большей частью неправославными, и отделяется от юго-западной
сектантской Руси большим пространством католической Польши и Литвы, с большой
примесью иудеев.
Более православный центр России исповедует отжив-
—
44 —
шую, грубо-суеверную, примененную к потребностям
русского государства, византийскую религию, т. е. в сущности
не исповедует никакой религии. Нет сомнения, что и эта часть русского народа
исповедует свою особую религию, дающую ей силу и смысл жизни, но она не
вылилась еще в определенные формы и прикрывается православием. Без веры жить
нельзя. Вера дает человеку необходимую ему духовную свободу, более необходимую
для его души, чем чистый воздух для тела, и ту твердость и ясность в борьбе с
внешними условиями, без которых жизнь человека или прекращается, или принимает
вид жалкого растительного прозябания, на какой бы ступени общественной лестницы
ни находился человек.
Вот к этой-то духовной свободе, даваемой
познанием истины о смысле жизни, о назначении человека и о его отношении к
бесконечному миру и окружающим его людям, и стремится русский народ в лице
лучших своих представителей и становится так называемым сектантом.
В этой борьбе за свободу можно различить
три ступени постижения истины и соответственно этим ступеням можно указать на
три главные группы сектантства.
Человек просыпается в своем сознании и
неудержимо ищет духовной свободы. Если это стремление к свободе превышает силы
его разума, то он погибает в этой борьбе за свободу, или жизнь его принимает
уродливую форму.
Если он ослабевает в этой борьбе, устает
и решается на отдых, но не возвращается назад, то он становится членом более
свободной организации, удовлетворяющей его умеренным духовным потребностям,
увеличивающей его материальное благосостояние, но почти лишающей его вместе с
тем возможности дальнейшей, самостоятельной борьбы за духовную свободу.
—
45 —
Наконец, третью ступень представляет
человек, неустанно идущий по пути духовной свободы, не остающийся ни в какой
организации, но готовый служить своему Богу на всяком месте владычества Его.
Эти три ступени заметны и среди русских
сектантов. К первому роду мы относим некоторые крайние, уродливые ветви, как
западного, так и восточного сектантства, как например: скопчество, прыгунство и
т. д.
Ко второму роду мы отнесем сильно
распространяющийся теперь баптизм и некоторые умеренные ветви молоканства,
штундизма и староверия.
Наконец, к третьему роду принадлежат
духоборы, некоторые ветви тайной секты хлыстов, так называемые младо-штундисты,
некоторые рационалистические ветви раскола и наконец малеванщина, которая собственно и составляет
предмет нашей статьи.
Замечательно, что указанные нами три
душевные склада в развитии русского сектантства имеют своих параллельных представителей как в области общественных движений, так и в
области идейного, философского развития. Мы не останавливаемся долее на этом
вопросе, опасаясь излишнего уклонения от предмета нашей статьи.
Мы считали нужным сделать это объяснение,
так как оно осветит для нас некоторые важные явления русского сектантства.
В темной крестьянской массе проявление
религиозной свободы сопровождается мучительным исканием правой веры, — веры
Христовой. Ищущий, грамотный он или нет — попадает на евангелие, и свет
Христова учения ярким блеском освещает смысл его жизни, и он решается вступить
на новый трудный путь, отпадает от церкви и подвергает себя этим самым
множеству лишений.
Но вот он встречает проповедника, который
так
—
46 —
же, как и он, ненавидит православную
церковь, так же, как и он, любит евангелие, но который его поражает еще новым
радостным известием, что таких людей много, что они живут, подобно древним
христианам, в одно тело и одну душу, собираются свободно и понятно славить Бога
и помогать друг другу в трудовой рабочей жизни. Ищущий находит все, что ему надо на первое время, и
он пристает к общине евангелических христиан, большей частью баптистов. Многие
слабые волей, или чрезмерно удрученные, остаются на этой первой ступени и
проживают там всю жизнь. Но другие, более сильные, идут далее. Увлеченные
сначала новизной окружающей их среды, они как будто чувствуют полное
удовлетворение, но вскоре начинают замечать, что над их душой тяготеет новое
ярмо, — догмат, и жизнь их связана новыми путами — авторитетом руководителей и
обычаями их общины, из которых далеко не все принимается ими с легким сердцем.
И успокоившийся на время искатель истины снова отпадает от церкви, хотя и
протестантской, но тем не менее церкви, организации,
требующей от него подчинения его духовного я — внешним правилам.
Новое освобождение, конечно, сопровождается
новыми страданиями, но их никогда не боится человек, стремящийся к идеалу с
твердой верой в него.
Такой переходной стадией русского
сектантства нам представляется баптизм и подобные ему евангелические церкви. И
малеванщина представляет один из примеров того явления, когда человек,
переросший эту переходную стадию, уходит дальше по пути духовной свободы.
III.
Появление малеванщины относится к 1891
году.
В 80-х годах в Киевской губернии сильно
распро-
—
47 —
странялся баптизм. В это время отпал от православия и
Кондратий Малеванный, мещанин города Тараща, Киевской
губернии, по ремеслу колесник и по образованию неграмотный.
В 1884 году он был крещен в баптизм, при
большом стечении народа, в присутствии урядника и властей, в пруде около села
Кердань, Таращанского уезда. Но он не долго пробыл баптистом, всего около
восьми лет. В конце 80-х годов в таращанскую тюрьму были привезены несколько
сектантов из села Скибина, отстоящего верстах около 30-ти от города Таращи, и единомышленники этих заключенных, наезжая для
свидания со своими братьями по вере, останавливались всегда у Малеванного и
вместе с ним посещали тюрьму. Через несколько месяцев глава этого движения, Венедикт Душенковский был
сослан в Елисаветпольскую губернию, а вскоре затем последовала высылка и
остальных. Приезжавшие единомышленники вели религиозные беседы с Малеванным и,
хотя после высылки заключенных, несмотря на обещания, они и не заглянули к
нему, но семя было брошено, и Малеванный с особенным
усердием начал заниматься изучением библии.
Выбрав себе из своих
единомышленников-баптистов 4-х более подходящих по настроению собеседников, он
вместе с ними углубился в изучение библии и пришел к заключению, что все
содержание Нового Завета есть ни что иное, как ряд притч, что собственно жизнь
Иисуса Христа, о котором говорится в Евангелии, — еще впереди, и что библейским
пророчествам еще предстоит сбыться, что тот Иисус, о котором говориться в евангельских притчах, есть лишь синоним правды и истины,
и что Христос, т. е. правда, был и до Авраама и во время Моисея, чтò и подтверждается Евангелием, в котором Спаситель
говорит: «Истинно, истинно говорю
—
48 —
вам: и прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Затем он говорил, что в I послании к Тимофею, в 6-ой главе сказано, что Его «никто из
человеков не видел и видеть не может», следовательно, Христос, о котором
говорится в Евангелии, есть лишь притча о правде, восприятием которой и должно
подготовить себя к принятию предсказанного Ветхим Заветом Спасителя. *)
Одна из последовательниц Малеванного
рассказывает мне в письме с эпической красотой Апостольских деяний начало
проповеди его следующим образом:
«…И баптисты стали его ненавидеть и даже хотели его
отлучить от церкви, потому что он их обличал за их неправильные поступки, тогда
мученик Малеванный объяснил их церкви, что кто хочет, братья и сестры, пусть
идут с ним славить Господа Славы. Тогда на это предложение согласилось еще
четыре семейства, и так продолжалось месяцев пять или шесть, они отдельно от
баптистов славили Господа Славы, и в Октябре месяце 1890 года мученику
Кондратию Дух свидетельствовал пробыть в посте и молитве. Тогда
он объявил это своей церкви, тем, которые были присоединены к нему славить
Господа, тогда и братья и сестры тоже пожелали с ним пребыть в посте и молитве
и пребыли они день и ночь, и на другой день в половине дня, когда они молились
и стояли на коленях, явилась слава Господня, и мученик Кондратий проговорил на
ином наречии, и с великим восторгом вострепетала его плоть, и он запел
громким голосом псалом:
—————
*) Ясевич-Бородаевская. Сектантство в Киевской губернии. Баптисты и Малеванцы. С.-Петербург, 1902 г.
—
49 —
«Слышите-ли
Божий Глас
«Поющего
в саду,
«Новым гласом он поет,
«Весна вечна настает…
и до конца, и так громко пропел, что все соседи
сбежались и недоумевали, чтò бы это значило, потому что день это был
праздничный, и когда окончилось моленье, тогда одна сестра Марфа в восторженном
Духе пала к ногам мученика и смело говорила: «истинно ты Христос, Спаситель
мира». И он тогда смиренно своими руками поднимал ее с полу и говорил слова:
«не делай сего, а поклонись и воздай славу Господу, сотворившему небо и землю».
А она еще более и более продолжала кричать: «истинно ты Спаситель мира, Христос
Иисус!». Тогда брат Савелий в великом восторге и в Духе вострепетал и тоже
говорил: «истинно ты Спаситель мира, Христос!». Тогда и все остальные, сколько
их было в собрании, братья и сестры, возрадовались Духом и славили Господа и
говорили: «истинно ты Спаситель мира, Христос Иисус!».
«А православные более и более наносили
насмешку и хулу на Святого Духа. Так продолжалось около двух недель, и стало
очень много народа приходить из братьев (т. е. баптистов) и из православных,
которые приходили из любопытства, а некоторые и верили в точности.
Тогда полиция и попы
видят делать нечего, стали преследовать мученика, а он давал всем очень хорошие
наставления.» *)
Г-жа Ясевич-Бородаевская так изображает
проповедь Малеванного: «В белых
одеждах, со скорбью во взоре, Малеванный встречал всех приветливо и ласково;
воздевая руки к небу, он со страстью говорил о зле, царящем на земле и
охватившем весь род людской, указывая на необходимость возродиться к новой
жизни путем самоусовершенствования, любовью к ближнему, добрыми делами,
стремлением к истине, исканием ее. Говоря о наступлении
—————
*) Из частного письма.
—
50 —
Царства Божия, Малеванный вместе с
этим предсказывал о предстоящих ему страданиях.» *)
«Эти страдания начались очень скоро.
«Узнало начальство и православные попы. В
один прекрасный день по наущению попа, приехал полицейский надзиратель.
Собралось много народа у домика, где жил страдалец. Надзиратель требовал от
него всякие ответы, но страдалец не давал никаких ответов, а только молился
Богу. Тогда надзиратель тайком позволил народу ломать и колотить домик, в
котором находился страдалец, и в эту ночь побили в этом домике все окна и двери
и кидали в окна и двери палками и каменьями, а страдальца с семейством Господь
сохранил. Они спаслись, прячась по закоулкам и за простенками. Семейство их
было шестеро детей, а всех 8 душ, и домик принадлежал им.
На утро домик остался совсем разоренный.
«После этого стало стекаться к нам
множество народа с разных сел и деревень слушать наставления мученика, кто из
любопытства, а кто с чистым сердцем. И многим православным открылись сердца. И
весь город Тараща пришел в движение.
«Тогда начальство поставило полицию
отгонять народ от домика страдальца. Но полиции делать было нечего, потому что
не успевали отгонять народ и отправлять по этапу. Тогда поставили городового
солдата в доме, чтобы никого не допускать до страдальца, и городовые постоянно
в доме находились посменно день и ночь, и продолжалось так около месяца.
«А народ не переставал приходить к
страдальцу, и братья которые поверили, с большой поспешностью
и с великим восторгом повсеместно прославляли Бога.
«Тогда, конечно, священство поспешило
дать знать об
—————
*) Ясевич-Бородаевская. Стр. 16.
—
51 —
этом в Киев, и оттуда приехали миссионеры, протоирей и
надзиратель города Тараща.
«Попы таращанские производили тогда
беседы со страдальцем и давали всякие вопросы, чтобы уловить в слове, и
говорили: «как ты смеешь называть себя Спасителем?» Тогда мученик отвечал, что
«я не называю себя Спасителем, но это свидетельствует Дух Отца моего небесного».
И после этого, конечно, по просьбе попов, на другой же день и взяли страдальца
в тюрьму города Тараща и насмехались над ним. Одели
его в самую худую одежду и на свидание никого не допускали, и посадили в
одиночную, самую худшую камеру, и дали в изголовье ему камень. Через три дня
пришел к нему в камеру поп и стал мученика уговаривать, говоря: «Кондратий,
прими православие, и тебя отпустят домой, и ты будешь жить с семейством. Что
нам до тех людей, которые раньше страдали. Это люди были святые, где же нам равняться
с ними!»
«Тогда страдалец указал священнику на
себя, на одежду и камень, который был подан для изголовья.
«Тогда священник почувствовал в себе стыд
и велел переменить одежду на страдальце.
«Тогда страдалец сказал: «пусть мою плоть
истребят, но Дух во мне жив будет».
«В Тараще в тюрьме держали три недели и
на свидание никого допускали, и потом повели его к следователю.
«Следователь его семейство допустил на
свидание. И у следователя мученик с семейством беседовал свободно, и после еще
неделю продержали в Тараще в тюрьме; потом отправили страдальца в Умань в
тюрьму, где продержали его до Троицы, и начальство допытывалось до него с
разными вопросами и разные ловушки ставили, чтобы уловить его в каком-либо
слове, чтобы предать его суду,
—
52 —
но ничто не помогло им, и им очень это было скорбно,
что страдалец неграмотный человек, а показывает все из писаний, из закона Божия.
«Из тюрьмы Уманьской повели страдальца
через город Тараща в Киев. Не доходя 20-ти верст до
города Таращи, в местечке Баранополь, братья узнали,
что ведут страдальца и что этап остановится на дневку. Поспешили встретить
страдальца с конвоем. И его семейство было допущено и братьев
допустили до беседы. Конечно, это не даром, а братья собрали денег и
подкупили конвойных солдат. И начальством было приказано, не доходя до города Тараща, сковать страдальца в оковы, что и было сделано. Он
был закован между двумя преступниками. По одну сторону шел какой-то еврей, а по
другую сторону цыган, а страдалец был закован за обе руки, одна рука к цыгану,
другая к еврею. И в Тараще ночевали всего одну ночь; некоторые братья провожали
его до следующей станции и там также за деньги были допущены на беседу, а
некоторые братья провожали даже и до города Киева. В Киеве
страдальца освидетельствовала комиссия, и потом отправили его в Кириловку (т.
е. в сумасшедший дом).» *)
В первый раз его продержали в больнице не
долго и выпустили домой под надзор полиции. Народ снова стал стекаться к нему и
слушать его проповедь. Полиция воспользовалась первым поводом недозволенного
собрания, когда в дом к Малеванному пришло несколько
братьев, и снова арестовала его. На этот раз его не отправили в Киев, а
посадили на высидку в городе Тараще при полицейском управлении. По словам
родственников, его там жестоко избили и после всякого издевательства отпустили
домой. По всей вероятности, Ма-
—————
*) Из частного письма.
—
53 —
леванный после этого пребывания у своих опекунов
опасно заболел, быть может, нервной горячкой, так как, по утверждению
родственников, он около шести недель не выходил из дому и к себе никого не
пускал и часто произносил какие-то непонятные слова. Но после шести недель он
оправился и снова вышел на проповедь. Народ снова повалил к нему, и он стал
снова опасен в глазах властей.
В апреле 1893 года его
опять арестовали и отвезли в Киевский дом умалишенных; там он пробыл до осени,
и так как сношения его с единомышленниками не прекращались, несмотря на
строгость одиночного заключения, то его перевезли по распоряжению высшего
начальства в Казанский дом умалишенных, куда он отправлен 14 Сентября 1893 года
и где находится по сие время.
IV.
В комиссии, свидетельствовавшей Кондратия
Малеванного, принимал деятельное участие ученый психиатр Сикорский.
Вот так он описывает Малеванного с своей точки зрения:
«В 1891 году Малеванный был по
распоряжению властей освидетельствован относительно состояния умственных
способностей и помещен в психиатрическое отделение при Кирилловских богоугодных
заведениях в Киеве. По тщательном исследовании он
оказался страдающим помешательством, уже перешедшим в хроническое состояние. В
течение своего более, нежели годичного, пребывания в больнице, Малеванный постоянно
обнаруживал описанные выше идеи бреда, по временам он был подвержен
галлюцинациям и, приходя в возбужденное состояние, импровизировал или чаще
цитировал отрывки
—
54 —
из того, что когда-либо было им читано и усвоено
заучиванием. Речь его носит характер автоматического потока фраз, сопровождаемым одними и теми же движениями, жестами и
интонацией. Течение его мыслей лишено последовательности. Такой же характер
носит и так называемое Евангелие Малеванного — это записанная его поклонниками
с его слов импровизация, не лишенная лирического оттенка, но лишенная
последовательности, а равно логического и грамматического смысла.
«При исследовании физического состояния
Малеванного, обращает на себя особенное внимание извилистость черепных сосудов
и налитие их кровью, что особенно резко выражается, как только Малеванный
начинает говорить или проповедывать, хотя он при этом не бывает возбужден. Очевидно, что налитие сосудов кровью не есть следствие
эмоционального возбуждения, а должно быть отнесено к патологическим причинам».
*)
И вот, кажущаяся профессору Сикорскому
непоследовательность речи и налитие кровью черепных сосудов решили дело, и
Кондратий Малеванный находится 12 лет в заключении в сумасшедшем доме!
Достоверность показаний профессора
Сикорского опровергается многими свидетельствами, сделанными не по распоряжению
властей, а просто по человеческому чувству гуманности. Одному из наших
знакомых, посещавшему своего товарища в Киевском доме умалишенных, удалось
видеть Кондратия Малеванного и беседовать с ним.
Вот что рассказывает он об этом свидании,
которого он добился, преодолев многие препятствия:
«Малеванного содержали, как «опасного
государственного преступника», в одиночной тюрьме. В больнице же
—————
*) Профессор И. А. Сикорский. Сборник научно-литературных статей, книга V, стр. 48.
—
55 —
все служители говорили, что его содержат, как «буйного
больного», хотя ни один из стражей не рассказывал мне ни одного случая буйства
Малеванного. Когда я осторожно задавал дальнейшие вопросы и
продолжал расспрашивать, то служащие уже меняли свои мнения и высказывали прямо
удивление по поводу того, что Малеванный содержится как «больной», да еще и
«буйный.» Из моих дальнейших расспросов, особенно из расспросов одного
фельдшера, часто навещавшего Малеванного, оказалось, что он такой же больной,
«что десятерых здоровых может за пояс заткнуть.» Этот фельдшер признавал в
Малеванном большой недюжинный ум, и когда я задал ему вопрос о том, чем же его
лечат, то он ответил уклончиво: «лекарствами.» На мой
вопрос: «что же Малеванный принимает их?» получился ответ, что никогда не
принимает и что у него вся комната заставлена нетронутыми бутылочками с
лекарствами. Далее фельдшер сказал мне, что доктора стали «редко к нему
заглядывать.» «Он с ними совершенно не разговаривает»,
пояснил мне фельдшер. Все эти предварительные расспросы подбавляли мне сил и я решился во что бы то ни стало добраться до этого
несчастного узника. И мне удалось пробраться к
Малеванному только через две недели после описанных разговоров со сторожами. В
эти две недели я, сопоставляя все разговоры, тщательно изучил расположение
коридора и камеры Малеванного, а также внутренний распорядок больницы.
В
час дня, осенью 1893 года, когда возвратился Малеванный с прогулки и вся
стража, находящаяся при нем, за исключением одного человека, ушла по своим
делам на больничный двор, я, воспользовавшись тем, что был отперт коридор, тихо
вошел в него с черного входа. К моему счастью, бдительность наблюдения за Малеванным к этому времени, несомненно, значительно ослабла,
—
56 —
вероятно, потому, что все убедились, что у Малеванного
не может быть никаких сношений с внешним миром.
«В коридоре было очень тихо, только где-то в дальней
камере возился кто-то, очевидно, больничный страж. Камера Малеванного
находилась по середине коридора. Я прямо направился к ней. Коридор и особенно
воздух коридора совершенно напоминали Киевскую Лукояновскую тюрьму, откуда я
незадолго перед этим только вышел. Когда я подошел к интересовавшей меня
комнате, то она оказалась запертой задвижкой. Через окошечко
в дверях, которое было полуотворено, я увидел углубившегося в чтение книги *)
человека средних лет с довольно большой бородой. Человек этот был одет в
больничную одежду. Я окликнул его. Он поднял голову и посмотрел на меня и,
вероятно, подозревая во мне кого-либо из докторов, опять опустил
ее продолжал читать книгу. Я второй раз окликнул его. Он тогда встал и
подошел к дверному окну. Я поздоровался с ним, он ответил и поклонился мне.
Заметив во мне нервную дрожь и некоторое волнение, он спросил меня, кто я. Я
назвал себя. В начале я несколько минут не мог говорить ни слова, а между тем
сознание того, что меня каждую секунду могут застать, заставило меня торопиться
со свиданием. Я пересилил себя и сказал ему, что, узнав о его заключении,
пришел просто проведать его и, если можно и нужно, хоть чем-нибудь помочь ему.
Он поблагодарил меня и сказал, что хотел бы видеться с кем-нибудь из
односельцев. Я пообещал ему хлопотать об этом, но не обнадеживал особенно, что
смогу чего-либо добиться, хотя в Киеве и носились слухи о том, что свидание с Малеванным будет разрешено его родным.
При первом взгляде на Малеванного,
он показался мне очень спокойным, уравновешенным человеком, хотя с характерной
выразительностью глаз, по которой мож-
—
57 —
но было судить о той громадной духовной внутренней
работе, которая происходит в этом человеке. От него я не слыхал
ни одной жалобы на его положение, и когда я стал расспрашивать именно об этом,
то видно было, что ему вообще не хотелось говорить о себе, и разговор наш принял
характер строго-принципиальный, касающийся исключительно убеждений и взгляда на
жизнь и деятельность. Он говорил мне, что его люди посадили в
«дом», не сознавая того, что они делали, и что скоро наступит на земле «царство
небесное», как видно это из священного писания, когда «все будут равны и не
будет тогда ни врага, ни его жертвы, ни богатого, ни бедного.» Говорил мне, что
приходит «конец мира» и что люди должны приготовить себя к новой,
обновленной жизни, когда наступят на земле новые порядки.
В середине нашего
разговора вышел из комнаты сторож, почтенный старик, который подошел к нам и
начал грубо меня отталкивать от дверей, но когда я ему сказал, что скоро уйду,
и попросил его, чтобы он позволил мне еще остаться с этим человеком, он
успокоился и сказал мне: «как знаете, а придет начальство, будете отвечать
сами».
Этот старик потом неотступно стоял возле
меня во все время дальнейшего нашего разговора, внимательно слушая нас.
Кондрат Малеванный спокойно разговаривал со мной и со
«сторожем», говорил, что нужно учить людей Евангелию и тогда все пойдет в мире
хорошо. Наш разговор продолжался около получаса. К сожалению, теперь, десять
лет спустя, я не могу
полностью восстановить его; скажу только одно, что Кондратий Малеванный
произвел на меня сильнейшее впечатление могучего человека. Я
кроме того убедился, что предо мной находится совершенно здоровый человек,
который уверял меня, — что его скоро
—
58 —
выпустят, так как убедятся в бесполезности принятого
решения держать его в доме умалишенных». *)
То же впечатление полной разумности получается от чтения писем Малеванного к свом
единомышленникам, писанных уже из тюрьмы; мы приведем два наиболее характерных,
цитируя по статье Ясевич-Бородаевской, по экземпляру, в котором самим автором
пополнены выпущенные цензурою места:
«Мне известно об вас и об
вашем волнении, — пишет он своим последователям, — что у вас происходит за
любовь Христову и за правду и свободу, которую вы возлюбили, и страдаете от
противника Божия, который старается поработить и лишить вас свободы Христовой и
любви братской, которою вы возлюбили Спасителя и друг друга, то предлагаю, не
бойтесь его и оденьтесь в броню правды и во всеоружие Божье и
восстаньте против его козней, будьте мужественны и добры, как воины
непобедимого своего Христа и Спасителя мира, ибо Христос победил и свалил его,
как буйный ветер растение и как соловья-разбойника из гнезда его свалил в
Киевской пустыне, уже он не будет петь песен своих соловьиных и не будет
обольщать род человеческий, и не будет убивать избранников верных
свидетелей Божьих, потому не бойтесь его; еще предлагаю вам,
не бойтесь змия, обольщающего вселенную своим обманом и философиею богословия,
как мутной воды, которую отравляют своим ложным писанием всех книг, и брошюр, и
газет, которыми, как болезнью, заражают стариков и молодых и юных детей и
производят соблазн и разврат жизни, производят в своих училищах всякое
заблуждение и пляски и игры картежные, растлевают оный род человеческий и
подготавливают к разврату и не-
—————
*) „Рассвет". Социал-демократический листок для сектантов. № 1.
—
59 —
покорности родителям и старикам, делают их дикарями
худшими, чем назад тому тысячелетия, потому что Христос признал все их училища
и заведения вертепами и развратными домами, где происходит всякая наглость и
хищничество и бесчеловечество; это кладбище мертвецов и зверей в пустыне
бесчеловечной. И полагают, что Бог забыл меня, но я ни на что не взираю: Бог
мой велик! Ему служат и солнце и луна и бесчисленные звезды и силы бесплотные и
во плоти миллионы избранников и все они защищают меня,
как верного свидетеля слов Божиих. Будьте и вы верны до конца, возлюбленные
друзья мои, братья и сестры, мир и благодать Господа нашего Иисуса Христа и
любовь вечная пребудет с вами любящими своего Спасителя. Аминь. Знамя выше
поднимите!»
А вот другое послание:
«Помните, откуда
Господь вызвал всех вас, и не забудьте дня горести и страдания ко всем вашим
братьям и сестрам, ближним и дальним, ибо вспомните, что одного произведения
весь род человеческий, не только человечество, но и вся тварь, всяких животных
и всех пресмыкающихся, и птиц небесных, и насекомых, и всякого растения, и всех
существ небесных, помните, что Господь всему полнота и совершенство. Он есть закон всей природы и повелитель
всему свету видимого и невидимого. Так и вы будьте подобно, как и Он. Господь,
сострадательный ко всему созданию и хочет сделать одним стадом Христовым, и
явить себя благим пастырем, где никто не будет
обижаем, но все будут едино, как один Господь в последний день, когда явится
перед нами, а пока вы стоите, как путники в темную ночь, и сбиваетесь с пути.
Тогда Христос освещает вас, как молния рассевает сей ночной мрак и вдохновляет
свой свет внутренний и показывает вам свой путь и истину и опять скрывает. Это
значит ваши испытания, дабы вы утвердили сердца
—
60 —
ваши на краеугольном камне, никто не мог соблазнить
вас прелестным мирским царством, которое есть перед Богом беспросветный мрак,
ибо вы сами видите, как мир обольщен земными страстями. Первые — преданные
пожеланию быть богатыми: это первое начало зла; растлевают себя большим
капиталом денежным и требуют славы от своих бедных братьев, которые порабощены
ими, требуют от них повиновения и уважения, чтобы их славили; они их и славят
по своей бедности и трепещут перед ними, как болезненное вещество. И они (т. е.
богачи) радуются и растлевают их всяким буйством и пьянством и кражею и всякими
неподобными делами, которых не делают даже животные. Они (власти)
одобряют их и защищают своими нечестными судами, и оправдывают и строят для них
приюты всякого рода, больницы, умалишенные дома, и цирки, и театры, и публичные
места, и всякого рода заведения, и показывают себя, что они владыки; но Господь
называет их грубыми разбойниками и грабителями своих бедных деревенских и
городских братьев; они грабят одной рукой тысячи, а другой рукой
жертвуют сотни на учреждения общественные и прикрываются перед людьми. Жертвуют
десятки тысяч, даже и сотни тысяч на какую-то святыню, монастыри и церкви, и
часовни, и памятники, и все это называет Слово предвечное Божье запустением. Все это называется древними шайками, разбойниками, которые в
древности собирались в густых лесах и убивали своих братьев и отнимали от них
жизнь, а теперича они сделались искуснее, и собрались в столичные города, и в
портовые, и в губернские, и даже в села и местечки, и ограбили весь народ, и
сделали из них нищих и полумертвых. Все они называются зверями и
чудовищами, они продали Христа за 30 серебрянников, а за миллионы Россию. Все
это есть братоубийцы, которые распяли своего Спасителя и уби-
—
61 —
вают его избранников до сего времени. И судят их
своими неправедными судами, отнимают от них жизнь семейную, разлучают мужа с
женою и отца с детьми, и заключают их в темницы, и взыскивают с них штрафами, и
отнимают от них последнюю жизнь. Жен делают вдовами, детей
сиротами и обольщают их всякими страстями, наводят скорбь и ужасы, и склоняют
их к себе, чтоб следовали их растлению всякого заблуждения, которым они сами
запутались, как в цепи и упали в смертный приговор ада, потому что они осудили
праведника и всех последующих ему». *)
Мы полагаем, что при самой строгой оценке
этих писем, в них можно усмотреть не менее последовательности мыслей,
логического и грамматического смысла, чем в ученых сочинениях Сикорского.
Но у нас еще есть более ценное свидетельство
о том ужасном по своей жестокости преступлении, которое совершено над автором
приведенных писем. Свидетельство это исходит от самих совершителей этого
преступления.
Есть русская пословица: «Лжецу надо
памятливу быть». Потому что, если он забудется, то обличит всю свою ложь.
И вот в всеподаннейшем отчете
обер-прокурора святейшего синода о состоянии православной церкви за 1899 год,
на странице 126-ой, в статье о Малеванщине говорится:
«Оживились также сношения с
родоначальником секты, мещанином Малеванным, сосланным по распоряжению власти
в Казань».
И далее на странице 127:
«Удаление Малеванного
в Казань и заклю-
—————
*) В. И. Ясевич-Бородаевская, стр. 27 — 30. (Во время доклада разрешено было прочесть лишь начало этого послания). Прим. автора.
—
62 —
чение его в дом умалишенных не только, повидимому, не достигло своей цели, но при
возобновившемся оживлении в Малеванщине, дало нежелательные результаты».
Итак, Малеванный сослан в Казань, удален
и заключен в сумасшедший дом, как вредный и опасный для властей человек.
Участники Казанского миссионерского
съезда, состоявшегося в июле-августе 1897 года, посетили Малеванного и
заключенного вместе с ним Чекмарева в месте их заключения, т. е. в
психиатрической тюрьме или больнице. Вот как рассказывается об этом посещении в
деяниях съезда.
«В распоряжение членов съезда отведена
была обширная зала. В. М. Скворцов, как исследователь Малеванского движения,
предварительно сделал сообщение об учении секты и охарактеризовал ее основателя
Кондрата. Прибывшим Кондрату и Степану отведены были стулья
за столом вместе с членами и всем им был подан чай. Беседа была
обставлена так, что имела особый характер, как встречи двух друзей (Кондрат
давно и близко знаком с г. Скворцовым по миссионерским делам в пределах юго-западного
края).
«Беседу вел В. М. Скворцов, оба ересиарха
весьма охотно излагали свои доктрины и отвечали на возражение членов съезда.
Беседа оказалась весьма поучительной во многих отношениях. Она
наглядно показала членам съезда, какие субъекты плодят в народе лжеучения и кто
владеет сердцами массы». *)
Далее на той же странице говорится:
«Миссионеры-практики, при обсуждении
результатов
—————
*) Деяния III миссионерского съезда. Казань. Стр. 81.
—
63 —
этой поучительной беседы, уверяли, что им приходится
встречать подобных Малеванному и Чекмарову много
среди фанатичных последователей новейшего сектантства». *)
Г-жа Ясевич в своей
статье о Малеванцах замечает, что Малеванный произвел глубокое впечатление
вообще на всех в Казанской психиатрической больнице, так что даже некоторые
члены миссионерского съезда, бывшего в Казани, посетившие Малеванного, были
положительно смущены беседою с ним: так была его речь в некоторых отношениях
сильна, убедительна и полна глубоких и чистых мыслей, переплетенных яркими
образами, облеченными в поэтическую форму». **)
V.
Бросим теперь беглый взгляд на те
признаки ужасной болезни, которая обусловила столь жестокую меру заключения
Малеванного.
Вот что между
прочим говорит об этом профессор Сикорский:
«Внешняя сторона
религиозного движения состоит в следующем: участники движения резко изменили
свой обычный образ жизни, продали большую часть имущества, переведя его на
деньги, отказываются от работы и, оставаясь в бездействии, находятся в
особенном, ненормально веселом настроении духа». ***)
Далее:
«Самой существенной чертой описываемой
эпидемии является наклонность, скорее даже неудержимая потребность
—————
*) Там же.
**) Ясевич, стр. 17.
***) Сикорский, стр. 45.
—
64 —
у заболевшего населения собираться массами и
предаваться порывам психического возбуждения». *)
Далее: «Внимание
властей было обращено на Малеванщину, потому в особенности, что Малеванцы
отказались от обычного образа жизни и занятий и стали обнаруживать странные и
вредные в общественном и санитарном отношении поступки и действия». **)
Далее:
«При встрече с
Малеванцами более всего поражает наблюдателя ненормальное настроение духа
Малеванцев, являющееся в форме необыкновенного благодушия». ***)
Далее: «Некоторые инстинкты изменены у
Малеванцев. Так у них замечается особенно резко выраженная наклонность к
потреблению сластей... Так, например, Малеванцы обзавелись
сахаром, пьют чай и, независимо от того, употребляют сахар в чистом виде, также
покупают и употребляют в большом количестве изюм, финики и другие сласти». ****)
Далее: «Чувство Малеванцев отличается
радостным, праздничным характером, так что настроение духа их правильнее всего
назвать жизнерадостным. Они испытывают постоянную радость и чувствуют
себя счастливыми».
Далее:
«При указании
Малеванцам на явно нелепый характер их отказа от работы можно каждый раз
получить стереотипную фразу: захочется работать, буду работать, не
хочется, зачем стану себя принуждать?». *****)
Профессор Сикорский подчеркнул эту фразу
курсивом, так показалось нелепым и ненормально болез-
—————
*) Там же, стр. 45.
**) Там же, стр. 49.
***) Там же, стр. 51.
****) Там же, стр. 52.
*****) Там же, стр. 53.
—
65 —
ненным в устах подавленного работой человека тот
проблеск света, который дает ему смелость сказать: если захочу, то буду
работать, а не захочу, — не буду.
Нам кажется, что именно это один из самых
существенных для властей признаков болезни Малеванцев.
Назвав одно из душевных проявлений
Малеванцев квиетизмом и подразделив его на два разряда, философский и квиетизм
обыденной жизни, профессор Сикорский так описывает этот второй «вредный в
санитарно-общественном отношении тип:
«Представители этого рода квиетистов в
высокой степени миролюбивы, великодушны и отличаются возвышенным характером и
самопожертвованием. Они отказываются от имущества, дарят его желающим,
незлобивы и заботятся о других. Они с полнейшим спокойствием и религиозной
преданностью ожидают грядущих событий. Их настроение духа
характеризуется твердостью, постоянством, устойчивостью: они не подвержены ни
судорогам, ни другим истерическим припадкам». *)
Если среди людей охваченных психической эпидемией, т. е. по-просту
сошедших с ума, по утверждению самого ученого, определившего это сумасшествие,
находится группа людей, отличающаяся возвышенным характером, спокойствием,
твердостью, великодушием и другими качествами, служащими высшими нравственными
проявлениями человеческого духа, то мы можем сказать: дай Бог побольше таких
сумасшедших, дай Бог и нам и самому профессору Сикорскому заболеть такой
болезнью!
Профессор Сикорский
кроме того утверждает, что между Малеванцами распространены некоторые
болезненно-нервные явления, как например: судороги, галлюцинации и т. п.; но
ведь подобные явления встречаются в большом
—————
*) Там же, стр. 75.
—
66 —
количестве и вне Малеванской среды, и потому они не могут
считаться характерными признаками этих именно сектантов.
Мы полагаем, что причина такого отношения
ученых и начальства к Малеванцам лежит в том, что люди, которые «по
распоряжению властей» были освидетельствованы комиссией с г-м
Сикорским во главе и признанны сумасшедшими — исповедуют столь высокое учение,
что распространение его угрожало существующему порядку вещей, а потому и
вызвало соответствующие меры строгости.
В чем же заключается это преступное
учение?
VI.
Учение Малеванцев очень просто. В основу
его легло очень распространенное среди русских сектантов с повышенными
нравственными требованиями учение о богочеловечестве, т. е. о высоком
божественном значении человека, и взгляд на тело человека, как на храм
божества, в нем обитающего. Из этой основы вытекают два весьма важные и
руководящие нравственные положения: во-первых, признание божественного начала в
человеке ведет к признанию его высшего человеческого достоинства и дает
человеку силы на смелое и твердое исповедание его принципов, и свободу и
независимость от внешних законов, обрядов и обычаев. Во-вторых
признание тела человека храмом божества требует соблюдения телесной,
нравственной и физической чистоты и особого рода благолепия, сдержанности и
спокойствия.
Эти два внешних признака, независимость и
спокойное достоинство весьма характерны у такого рода сектантов. Отсюда же
вытекают и все другие нравственные и общежительные качества: взаимная помощь,
стремление к общинности, отказ от участия в мирских делах, как
—
67 —
например, солдатчина, суды, подати,
паспорта, собственность, деньги, и т. п. делах, большею частью роняющих
человеческое достоинство и соблазняющих человека на разного рода пороки.
Кроме того
отсюда вытекает и особого рода теологическое учение и особенного рода отношение
к священному писанию. Опираясь на внутреннее богопознание, Малеванцы не предают
значение писанию, а если и цитируют из него тексты, то большей частью предают
ему иносказательный смысл.
Всем этим вышесказанным нами общим
положениям легко найти соответствующие подтверждение
во многих письменных и устных выражениях Малеванцев. Так, например: «Малеванцы утверждают, что баптисты живут по букве, между тем как
священное писание говорит, что «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор., 3,
6), а они Малеванцы, по духу, и что, если жить по букве, то можно впасть в
большие ошибки, так как ни одно писание, говорят они, не может породить столько
разногласий, как Евангелие, где говорится, что Бог дал нам способность
быть слушателями Нового Завета, не буквы, но духа (2 Кор. 3, 6). Но вчитайтесь,
говорят они, и вы увидите, что весь Ветхий и особенно Новый Завет состоит из
притч, которые следует понимать духовно. Христос по их
мнению, — добро, а разбойник — зло. Правду — Христа —
похоронили, а разбойника — зло — освободили, и оно царит на земле.» *)
«Не отвергая Ветхого и
Нового Завета, как книг назидательных, но для принявших новое учение уже
отживших, сделавших свое дело, Малеванцы считают эти книги за азбуку,
необходимую лишь для несовершенных, каковы, по их мнению, баптисты,
отыскивающие еще пути.
—————
*) Ясевич-Бородаевская, стр. 19.
—
68 —
Евангелие, по их понятиям, есть
только путь с адресом в град спасения, а если найдешь город и попадешь в него,
то адрес можно бросить.» *)
Закон написан, говорят Малеванцы, на «плотяных
скрижалях сердца» человеческого, а не на бумаге, и этой живой книги не
уничтожат никакие человеческие законы, как бы строги они не были. Книга эта
раскрывается для людей самим Богом, в виде проповеди помощников Его. Человек
есть храм Бога живого, учат Малеванцы, опираясь на Священное Писание, где
сказано: «Не знаете-ли, что тела ваши суть храм
живущего в них Святого Духа» (I Кор., 6, 19)
А вот одна из духовных песен Малеванцев,
или псалма, выражающая тоже учение:
Я — Дух любви и Бог
блаженства,
С тобой союз я
заключил,
В телесном храме
человека
Любовию святой почил.
Очистил
дом сей для молитвы,
Чтобы в нем Богу
пребывать,
Дабы в гробах спящих
мертвых
На
суд Любви мог призывать. **)
«Воскресение мертвых, в том виде, как
понимает это церковное учение, они не признают, так как
по их мнению, люди ходят в гробах-грехах, а очистится человек от греха, —
расторгнутся узы смерти — греха, вот он и воскреснет.» ***)
Г-жа Ясевич так передает слова Малеванца
по поводу воскресения мертвых:
«Неужели же вы думаете, что взаправду
настанет время, когда вдруг раскроются все гробы и повыходят от-
—————
*) Там же, стр. 20.
**) Там же, стр. 21.
***) Ясевич-Бородаевская,
стр. 21.
—
69 —
туда сгнившие покойники, как вот их на картинах
рисуют. Да нет же! В гробах люди живые, бродят эти люди, как
звери, захваченные грехом, а спадет с них пелена, бросят беззакония, раскроются
их гробы и воскреснут они вот тут на этой земле, да и теперь уже воскресают, —
воскреснут все, познав истину, Бога в Его любви, и станут люди любить друг
друга, а не терзать, как терзают теперь.» *)
Малеванцы верят в конечное торжество
правды.
«Ночь скоро пройдет, говорил Малеванец, и
минует, и путь клонится к свету... развиднеется (рассветет) и для всех людей
будет светить солнце, и все будут ходить во свете,
увидят правду и неправду, и все поклонятся Христу Богу, и все покорится Ему:
прежде пастухи, потом мудрецы, потом и цари и вся власть покорится; тогда
правда озарится, и любовь обновится, и все будут во
свете, и тьма пройдет, и тогда будет один Бог, и весь народ будет сыном
Божиим». **)
«Страшный суд, говорят Малеванцы, для
верующих в Иисуса наступает тогда, когда бить начинают за Иисуса. Страстная
ночь это та, когда Иисуса искали, и тот, кто знает Христа, тот знает и страсти
Христа. Ведь Христос в нас, и они хотят в нас убить Христа!
«Люди при страстях Христовых
(когда хотят изгнать из сердца Христа) должны зажигать не свечи в руках, а
зажигать в сердцах светильники любви, чтобы они горели и в этих страстях нужно
только бояться, чтобы не обуяла тьма, чтобы верующий не убоялся гонений за
Христа и не потух бы его внутренний светильник; а у православных зажгут свечи и
стоят они со свечами и думают, что этим служат Христу, а потухнут их све-
—————
*) Там же, стр. 23.
**) Там же, стр. 28.
—
70 —
чи, и они остаются
в той же духовной тьме, как и раньше пребывали.» *)
В
двух последних цитатах, приведенных нами, заметны еще две мысли, характерные
для Малеванцев и выражающие, по их понятиям, два условия постижения истины;
первое условие состоит в том, что истина постигается только страданием, и
второе условие, как следствие первого, — в том, что истина становится доступною
сначала простому народу (сначала пастухи, потом мудрецы, а затем цари), как
более страдавшему, а потом уже господам, то есть так называемой интеллигенции.
Эти две мысли прекрасно выражены в словах малеванки, приведенных г-жей Ясевич,
на малороссийском наречии:
«Не панам же страдать, панам трудно нести цей хрест, бо вин дуже
важкый; много нужно выстрадать за истину, доки истина воссияет... а простый
народ... уготованный к терпению: вин и бытый, вин и сиченный, ему легче нести
хрест, вин пробье шлях до истины, а там и истина пробьется до панив.» **)
Нам
кажется, что образованные люди, идущие «в народ», должны хорошо запомнить эти
простые и мудрые слова. А страданий Малеванцам предстоит не мало. Одно из
обычных и жестоких страданий, это этапные пути.
«Представьте себе такого рода
положение: мать семейства отправляется верст
за 18 в соседний уезд на собрание, там во время молитвы и пения являются сельские
власти, и начинается расправа. Пришедших из других уездов забирают в холодную,
и вот для них начинается ряд тяжелых испытаний, где не принимается в расчет ни
паспорт, ни оставленные дома дети, ни время косовицы. Для забранных
начинается пересылка по эта-
—————
*) Там же, стр. 23.
**) Там же, стр. 20.
—
71 —
пам и, конечно, сидение в попутных деревенских
пунктах, пока гонимая партия не дотянется до уездной тюрьмы. Каково
положение этой женщины-сектантки, каковы ее душевные муки, чтò она
испытывает по поводу покинутых детей, и каково положение этих детей в
неизвестности об исчезнувшей матери, когда даже с большим или меньшим вероятием
нельзя определить времени ее возвращения домой.» *)
Но эти и подобные и еще худшие страдания
не смущают последователей нового учения.
«Разлученные с семьями,
разоренные вконец, лишенные свободы, избитые нередко, они и в тюрьмах и в
сумасшедших домах не ропщут, а выносят страдания стойко, называя эти страдания
подвигами во имя Христа.» **)
Упомяну еще об одной особенной черте
учения Малеванцев, свойственной также и многим другим подобным сектантам, —
черте, вытекающей из особенных духовных свойств русского народа.
Особенность эта есть попытка
непосредственного, сейжечасного осуществления выработанного долгими страданиями
идеала.
Человек познает истину о несовершенстве
современного строя жизни, составляет себе образ лучшего строя и с неудержимой
силою, сламливающей все встречающиеся на пути препятствия, стремится к
осуществлению этого образа. Царство Божье наступило и внутри и вовне одинаково безусловно. Это сознание перемены, обновления,
борьба с препятствиями внешними и внутренними, до такой степени волнуют
новообращенных, что в этот первый период распространения нового учения,
расшатанная нерв-
—————
*) Ясевич-Бородаевская, стр.
33.
**) Там же, стр. 32.
—
72 —
ная система дает некоторые
болезненные проявления; вот эти-то болезненные проявления, как судороги,
галлюцинации и другого рода возбуждения, г-ну Сикорскому и было удобно принять
в угоду властям, за самую сущность движения, и представить его всего, как
психопатическую эпидемию, упустив из виду высокие, нравственные и общественные
побуждения, только временно проявлявшиеся в некоторых психопатических явлениях.
С
течением времени эти экстазы и другие явления проходят, и обыденная жизнь
вступает в свои права, неся на себе следы внутреннего перерождения и потому,
являясь обновленной и облагороженной по отношению к окружающей, нетронутой
новым учением, среде.
В
подтверждение этого мы можем привести следующий разговор с Малеванцем г-жи
Ясевич, наблюдавшей Малеванцев через десять приблизительно лет после
Сикорского.
«Сделавшись
адептами нового учения, Малеванцы положили в основание своей жизни и новые
этические начала: бескорыстие, любовь к ближнему и
взаимопомощь. — «Прежде, — говорил мне один сектант, бывший
подрядчик, — когда я для исполнения работ собирал артель, то старался так
устраиваться, чтобы взвалить на товарищей самую тяжелую работу, а с их
заработка урвать себе бòльшую часть, а стал жить по новой вере, и не
беру себе ничего лишнего, — что им, то и мне. Нас вот упрекают, что мы
будто говорим, что не нужно заботиться о завтрашнем дне. Да как же так? Уж если
я делаю сапоги себе, то делаю их не только на завтра, а на целый год. Какой же
тут завтрашний день! Говорят, что наш достаток стал последние годы хуже. Да
разве оттого, что мы не обираем ближнего! Трудно нам жить, это верно,
—
73 —
да не от новой
веры, а уж видно, Богу так угодно, чтобы мы за имя Его святое претерпели...» *)
Эти временные лишения и
расстройства в хозяйстве могут быть легко устранимы и устраняются, как только
сектанты предоставляются самим себе и жизнь складывается в свободные,
независимые общины. Примером этому могут служить многие сибирские сектантские
колонии и еще более разительный пример представляют
канадские духоборы.
VII.
Я полагаю, что всего сказанного вполне
достаточно, чтобы составить себе представление о том религиозно-нравственном
движении, которое г-ну Сикорскому угодно было выдать за психопатическую
эпидемию, и по чьему «научному диагнозу» властями совершено это жестокое
преступление, заключение на долгие годы в сумасшедшем доме основателя этого
движения, Кондратия Малеванного.
Поведение властей понятно. Малеванный и
его последователи вредны и опасны для них и их служителей более, чем кто-нибудь иной.
Взявшие меч — гибнут от меча, но людей не берущих в руки меча и ведущих народ к новой жизни —
ничем остановить нельзя; казнь делает мученика и сразу усиливает движение.
Заключение в тюрьму делает новый очаг пропаганды, а для властей простой
уголовный преступник гораздо более удобен, чем человек начавший жить новой
жизнью. А главное, нравственная высота этих людей не позволяет даже самым
неразборчивым на средства властям делать из них преступников. И вот,
—————
*) Там же, стр. 32.
—
74 —
проповедника нового учения подвергают жесточайшей и
утонченнейшей пытке во славу святой церкви — заключению в сумасшедшем доме,
среди больных, трудно восприимчивых людей, и среди еще менее восприимчивых
ученных и тупых тюремщиков, — врачебного персонала психиатрической больницы.
Действие этих властей понятно. Но
непонятно для нас равнодушие общества, более или менее свободного и гуманного,
допускающего это злодеяние.
Почему не раздался до сих пор крик
негодования, почему не предъявлено было требование об освобождении?
Пусть все высказанное
мною здесь — будет попыткой воззвания к справедливости, обращенного к русскому
обществу, к церковным и светским властям и к их рабам, исполнителям этих
жестоких деяний. *)
П. Бирюков.
Onex, près Genève. 27 мая, 1904 г.
—————
*) В настоящее время Малеванный освобожден.
Дорогой брат Иван Михайлович!
Простите, что я так долго не писал вам
той истории, с которой сам навязался к вам. Цель моя была в ней открыть вам
великую силу Слова Божия, которую я испытал на себе, и
великую милость и долготерпения к нам — погибшему и заблудшему роду
человеческому.
Во-первых, прошу вас, не подумайте, что я
этим ищу быть известным между братьями. Нет, избави Бог меня от такого
пагубного честолюбия, чтобы я, ничтожный прах, дерзнул отвоевать себе у моего
Создателя славу, которая принадлежит единственно Ему, от подобных мне созданий
— братьев моих, человеков.
Я вам пожелал написать это исключительно
только для того, чтобы вы, братец, получили назидание и укрепились верою в Бога
через Господа Иисуса Христа и были бы Его последователем.
Я родился в известной вам губернии в
Малороссии. Родители мои, малороссы — крестьяне, жили при средних крестьянских
обстоятельствах — ни бедно ни богато. Они были
крепостными помещика. Родитель мой очень любил просвещение и сам выучился
читать кое-как псалтырь и святцы уже женатым, еще при барщине; любил посещать
монастыри, в которых искал познания истины, и потому и нас, детей, коих было
семь душ (4 мужск. и 3 женск. пола)
— 76 —
старался воспитывать в страхе Божием и в обрядах
православной Церкви.
Однажды мой родитель пожелал
путешествовать в Иерусалим, к святым местам Востока, и это ему удалось очень
благополучно. Пробыв в пути 6 месяцев (это было в 1874 г.), он возвратился с
большим запасом разного рода книжек, и листков, и брошюр духовного и
нравственного содержания и этими книжечками нас развивал, сколько мог. В числе
книг был Новый Завет, который он меня часто заставлял читать для него. Мы почти
все были грамотны, кто более, кто менее из нас. Я более всех имел охоту учиться
и окончил народное училище с успехом и похвалой. Родитель, видя мое прилежание,
обещал меня посвятить на служение, по его мнению, Богу, то есть отдать в
какой-нибудь монастырь.
Между тем мое детство было сильно
огорчено нелюбовною жизнью нашей семьи. Я сильно горевал, что мы не умели
ладить между собой и часто ссоримся и огорчаем друг
друга, за что часто родитель нас наказывал. Дух религиозный возбудил в нас
родитель своими рассказами, что он видел и что читал в Евангелии, и он уловлял
наше общее внимание и доводил некоторых из нас до слез. Это был первый посев на
нашей земле, от которого, еще Бог знает, что ожидал он собрать.
В 1880 году родитель в другой раз посетил
Палестину, но уже не с тем возвратился, с чем прежде. После того он сделался холоден к религии и как в натяжку исполнял он
обряды. Мы недоумевали, что бы это значило. И когда я приставал к нему свезти
меня в монастырь по обещанию, то он меня удерживал словами: «И там трудно за
доброе, погоди». Я не раз слышал его жалобы на лукавство и криводушие монахов,
живущих в св. местах. Тут я понял, что он раздумал исполнить обещание.
Летом лет до 18 я жил дома и работал.
Религия у
— 77 —
меня тоже потеряла свое значение, а развивалось и
возрастало с летами и зло. Я понял деньги, как главный продукт для жизни или
источник счастья, и только желал их нажить. С этою целью я упросил родителей
отпустить меня в Одессу для заработка. Там я не столько нажил денег, сколько
выучился их мотать и проводить зря. Тут я получил образование и выдержал курс
по всем классам порочной жизни и сделался куда угодно, а притом всем я
познакомился с атеизмом и дерзко ругался на все лады
всякими богохульными и смрадными словами.
Прожив так три года, я получил
предписание волости явиться осенью к призыву для воинской повинности. Приехав домой, я стал выдавать себя за светски образованного
человека и скучал по городу. От скуки стал спрашивать у людей хороших книг для
развлечения. Отстояв призыв, я попал в 1-й разряд ополчения и должен был
явиться на ополченский сбор на учение, и поэтому волость воспрепятствовала мне
отлучаться в город и заставила зимовать дома. Спрашивая книг у людей, я напал
нечаянно на Библию, которая лежала у одного солдата в сундуке, как полезная
книга. Он ее сам никогда не читал. Я под залог взял Библию и решил ее прочесть
с начала до конца, начав с Бытия. Прочитывая книги Моисеева закона, я сильно
был потрясен им и благодарил Бога, что он теперь бездействен. Иначе меня давно
уже по нем побили бы камнями, как блудника,
прелюбодея, ворожея, скотоложника, оскорбителя родителей, богохульника и
прочих, которым закон Моисея грозил смертью. Тут я стал колебаться между верою
и неверием, потому что читал из любопытства. Я старался успокоить себя тем, что
это все неправда, что этим Моисей только стращал
евреев. Но написанные тут же 10 заповедей заставляли
меня содрогнуться и подумать. Тут мне представились два пути жизни и смерти,
как Израилю. Тут было решить трудно: или отвергнуть все и заповеди, как
— 78 —
выдумку, и продолжать жить свободно, или на веру
принять все написанное и начать направлять свое поведение. Талое колебание
продолжалось недели две. Читать я все продолжал. Наконец заповеди взяли перевес
и восстановили падшую веру, что Бог есть и всех беззаконников когда-нибудь
истребит за сделанное ими зло. Но как исправиться такому пропитанному злом
насквозь, живому на все злое и мертвому на доброе?
Находя это очень трудным, я решил броситься стремглав в мирские наслажденья, не
думая более о том, что за этим всем последует.
Но вот в начале декабря 1890 года я
дочитал до 27 гл. Второзакония, пятой книги Моисея. Среди белого дня читал эту
главу. Проклятия, помещенные в ней, навели на меня ужас. Я увидал, что вся
жизнь моя и дела влекут за собой проклятия. Я испугался своего положения, и
вдруг все чувства у меня притихли, а проклятья, только что прочитанные,
наполнили все мое существо. Я перестал замечать, где я нахожусь, только и
слышал, что проклятия, произнесенные Богом через пророка, прямо ложатся на мою
голову. В эту минуту я себя так возненавидел и увидел все свои пороки так ясно,
как будто они все были сделаны за минуту перед тем, и я увидел себя мерзче
всякого отвратительного гада. Посмотрев на себя, на
свою приличную одежду, которая приобретена была шарлатанством, плутовством и
неправдою, я почувствовал к ней сильное отвращение и схватил обеими руками за
ворот на себе рубаху глаженную и тельник, разодрал до низу и
сорвав с себя, бросил под лавку. Мать моя, увидев это, испугалась, подумав, что
я сошел с ума. Я у ней попросил дать мне простое
холщевое самодельное белье. Надев его и старые сапоги
и старую свиту, пошел ходить по нашей усадьбе, чтобы успокоиться. Но
спокойствия не было, проклятие так сильно звучало у меня в голове и сердце, что
я почти ничего не видел и не слышал, что вокруг происходило.
Ходя по усадьбе, я наткнулся на одно
место моего давнего
— 79 —
порока, о котором я было
позабыл, но место тут громко заговорило, осыпая меня проклятиями. Говорит: ты
помнишь, проклятый: что ты меня осквернил тогда-то таким-то делом, мне тяжело,
тяжело тебя носить, я несу за тебя проклятия. Я отворотился в другую сторону и
пошел. И, о ужас! Каждое место земли, которое
когда-либо было еще из детства опорочено грехом, осыпало меня проклятиями. Я
сильно на себя негодовал, я ясно видел, что ничего более не заслуживаю, кроме
проклятия. Я впал в отчаяние и осудил себя на смерть, сказав: «такому негодяю не следует более жить, его надо стереть с лица
земли. Иначе жизнь моя развратная не может быть нисколько никому полезной, а
только вредной; и еще жить — значить еще увеличивать
проклятия и кару перед небесным правосудием, а лучше покончить с собою
самоубийством». Но какой род смерти выбрать? Удавиться? Стыдно и позорно.
Застрелиться? Нечем. Утопиться? Жаль родителей, и так я жил им не на радость, а
на горе и печаль. Жаль было их беспокоить своею негодною кончиною негодной
жизни. А лучше всего замерзнуть; морозы тогда были хорошие, смерть легкая. Труп
найдут, доставят родителям; они схоронят и успокоятся, зная, что одного негодяя сына нет.
Решив так, я только дожидался ночи, чтобы
ускользнуть от родителей и выбежать в поле. Они стали за мною наблюдать.
Аппетит и сон от меня совершенно удалились. Я внутренне горевал, что я погиб, и
отчаянно читал себе в уме приговор. Настал вечер и ночь. Я притворился, что
сплю, чтоб обмануть родителей, но их обмануть было трудно. Они так же, должно,
всю ночь не спали, как и я. Если я ночью подымался, то
и из них один подымался; если выходил на двор, то из них один делал то же.
Значит следят. На другой день со мной то же самое и на третий то же. Проклятие
в полной силе охватило все чувства, отчаяние то же самое; решено, сделано,
только остается исполнить. Но на ночь тоже не удалось: родители следят. Дожидаю
— 80 —
третьей ночи: днем я в амбарушке приготовил для ночи старую одеженку для прикрытия от сторонних глаз, чтоб никто
не помешал.
На третью ночь бодрость родителям
изменила, они крепко заснули. Я, подождав довольно, поднялся только в белье и
тихонько направился к двери. Послушал — родители спят. Я тихо отворил дверь,
вышел в сени осторожно, прислушиваясь родителей, хочу идти на двор. Но вдруг
приходит ко мне сильная мысль, сильная как вода, коей удержу
нет, и твердить мне в голову молитву следующую: «Верую, Господи, и
исповедую, яко ты еси во истину Христос Сын Бога
живого, пришедший в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз». Когда эта
сильная мысль ко мне приступила, мне стало неприятно, и я ее
стряхнул с головы; она еще более усилилась и вломилась во все мое существо с
такою силою, как и проклятие, и пока я прошел сени и прошел дверь на двор и
сделал шагов 15 к амбару, она так сильно действовала во мне, что заставила
обратить на себя внимание и поверить в ее значение. Я, будучи горячего и
настойчивого характера, желал освободиться от нее и привести в исполнение
задуманное. Я вполне сознавал, что эта мысль, как и проклятия, происходили не
от меня. Я самостоятельно сознавал свое отчаяние. Но, когда я отворил дверь
амбара, у меня явился вопрос, не Христос ли это невидимо присутствует своим
духом, вышел встретить меня, как наинского юношу, недалеко гроба вечной
погибели, чтобы воскресить его. Так точно было со мною, но я этого не знал, а
только вдруг явилась во мне вера во Христа Иисуса, как в спасителя и ходатая за
грешников. Я поверил почему-то в Его недалекое ко мне присутствие, и стыдно
стало мне за себя, и сил не стало. Я упал на пол амбара и, заливаясь слезами,
начал молиться: неужели Ты, дорогой Спаситель, есть надежда таким, как я,
погибшим грешникам? Неужели я еще могу рассчитывать на прощение и на жизнь?
Неужели Ты
— 81 —
берешь на себя, на свой счет, все мои грехи и долги
перед небесным правосудием? Неужели я, погибший, еще могу жить для добра и для
Тебя и могу исправиться? В таких горячих вопросах молитвы я пролежал с час и
просил Его научить меня, что мне делать и как отдать Ему на служение свою
негодную жизнь, теперь Им спасенную вторично от смерти и отчаяния, но совета не
было и сердце более не ощущало ни этой, ни другой такой сильной мысли.
Между тем я очнулся, как от сна, и
почувствовал, что мороз на меня оказывает свое действие. Совесть перестала
мучить, мир и спокойствие водворились во внутренность, проклятие было вытеснено
этою сильною мыслию, которая теперь уже отошла, а я сидел в недоумении среди
глубокой ночи в амбаре, и дверь настежь. Какая-то сильная надежда на уже отошла, а я сидел в
недоумении среди глубокой ночи на ноги и воротился в избу; тут и сон, дотоле не
являвшийся, начал смежать глаза, я упал на постель и спокойно спал до утра. На
утро проснулся с ужасом, вспомнил трехсуточное мучение мое; но теперь уже
ничего подобного не было. Я встал, открыл Библию, повторил снова все проклятия,
но они уже не наводили на меня ужаса. Я, по-видимому, выздоровел, как был.
Только то, что омерзило тогда, то мерзко было и теперь: и одежда, и сласти, и
самолюбие, и гордость. Я стал работать и жить дома скромной жизнью, а что со
мною было, никто не знал.
Прошу вас, дорогой брат, не осудите меня
за мое малодушие и отчаяние; но представьте себе ужас всего того, что со мной
было; будь другой на моем месте, не знаю, как бы он тут поступил. Я это
приписываю действию руки и милости Божией, обращающей погибшего человека к
жизни и покаянию. Так, если Бог по кончине мира представит пред
лицо всех грешников все их пороки, как мне, то не надо никакого ада, никаких
мук. Страшнее этих мук ничего не может быть, тогда жизнь в тягость, и нет
спасения. Если
— 82 —
Бог уничтожит смерть, то именно это и будет вечная
мука в вечном укоре совести и проклятии от всего окружающего. Горе, и горе, и
мука несносная.
Потом я сам себе положил удалиться в
монастырь и жизнь свою отдать Искупителю. Когда я освободился от воинской
повинности, кое-как ее отбыл, я, взяв паспорт, распродал вещи и отправился в
Одессу, а оттуда желал пробраться на Афон. Но тут препятствие: без увольнения
общества меня не пропускали за границу в Турцию. Я об этом сильно просил и
хлопотал, но ничего не помогло; надо свидетельство от общества. Мне монахи
советовали ехать домой просить у общества свидетельства, но не хотел я, чтобы
люди знали мое намерение, и потому не хотел возвращаться. А через неделю монахи
посоветовали ехать на Новый Афон, на Кавказ, близ Сухума. Я туда и отправился.
По прибытии через 15 дней, стал я
проситься в братство. Игумен меня принял и послал к эконому, некоему о.
Лариону, который девять дней держал: «приди завтра». На десятый день эконом
отдает мне паспорт и требует, чтобы я уходил, не беспокоил. Я просил, настаивал
у его ног, но был отказ. Едва я упросился в рабочие по 8 руб. в месяц и
содержание. Прожил я там 7 месяцев и думал заслужить внимание и после быть
принятым в братство, но дело вышло иначе: там жил некто садовник; однажды,
увидав меня в саду, он сильно в меня всмотрелся и, покачав головой, говорит:
«Напрасно, мой друг, ты сюда заехал, напрасно ты гонишься за истиной так далеко.
Она гораздо ближе, чем ты думаешь. Напрасно ты ищешь ее в подобных тебе слабых
смертных, а особенно здесь, где формы и обряды все поглотили, а живущие здесь
сами ее едва кто знает». Я его спросил, почему он знает меня. Он объявил, что
видел меня повсегда в церкви и замечал за мною. Я его спросил, где же искать
истину? Он сказал прямо, что истина во Христе, то есть в Евангелии; и советовал
мне
— 83 —
заняться усердным и внимательным чтением Евангелия и
Псалтыря. А о монахах и монастыре выразился он как-то противно, хотя и сам был
тем же. Я с ним расстался в недоумении, что он за человек? Но твердо верил, что
чтение таких книг полезно, и купил себе тут же Новый Завет и стал его со
вниманием проходить.
Но вот раз меня встретил садовник и
спросил меня, читал ли я что-нибудь. Я отвечал: «Читаю, да мало понимаю». — Он
мне говорит: «И знай, если ты читаешь, испытывая, т. е. из любопытства, то
ничего не увидишь и не уразумеешь. Бог всякого любопытства не любит, а требует
серьезного обращения и веры в учение Иисуса Христа, и
праздное любопытство ничего не дает, кроме неверия», и указал мне на 7 гл. 16 и
17 ст. Евангелия Иоанна: «Кто только от души захочет творить волю Божию, тот
узнает, откуда это учение». Я тогда стал строже следить и поверил, что в
Евангелии открыто, через Иисуса Христа, людям воля Отца небесного, Творец
всего. Тогда я действительно стал мало-помалу понимать и все продолжал читать.
Вскоре этого человека перевели в другой сад на леваду, далеко от монастыря, и я
его более не встречал.
В скором времени также открылась фальшь
между иноками, и желание мое сделаться монахом исчезло. Я, прожив еще немного,
уехал обратно в Одессу, где поступил служителем в больницу, что для меня было
очень приятно. И там, прожив года полтора, уехал домой по второму требованию на
ополченский сбор. Это было в 1893 году.
Запасшись из Одессы Библией, я уехал
домой и все свободное время копался в ней. Это надоело моему родителю, он давай
мне советовать бросить ее, но я продолжал. Потом он захотел узнать, что меня
так интересует. Я ему открыл то, что несогласно с обрядами православной Церкви.
Он меня не понял и стал противиться, приказывая все бросить; я стал доказывать
правоту Писания. Родитель
— 84 —
пошел советоваться со священником, точно ли это так.
Священник ему прямо сказал, что я в заблуждении и ереси, и советовал ему сжечь
Библию. Родитель, прийдя домой, хотел это исполнить, за что у нас с ним вышла
неприятность. Старшие братья женатые и сестры замужние кинулись разбирать наше
дело. Я открыл им Писание, с которым они тоже согласились. Родитель
беспокоился, не веря ничему, и опять к священнику.
Священник в следующее воскресенье на
проповеди огласил меня еретиком. Мне стало больно. По выходе из церкви я
подошел к священнику и стал его совестить, почему он раньше не узнал, что я
читаю и что хочу? Тут он попросил меня домой к себе, обещая разъяснить мне все,
что нужно. Я ему там представил все смущающие меня тексты и просил изъяснения.
Он немного пояснил, а потом стал укорять меня штундистом, с которыми
я еще не был нисколько знаком. Да и во всей нашей губернии штундистов не было
слышно. Я ему сказал: неужели только штундистам дано знать св. Писание, а
православным нельзя его читать? Он объявил, что православная церковь сама
«столб и утверждение истины», а потому не дозволяет своим детям руководиться
Писанием, а требует беспрекословного послушания к себе. Я в возражение
представил ему стих 105-й 118-го псалма: «слово Твое —
светильник ночи моей и свет стезе моей», а слово Божие в Писании. Он меня
спросил, кто меня этому учил? Я сказал, что теперь у нас много свободного
времени, я читал и нашел. Он: «если бы ты не имел времени читать, а чтобы тебя
хорошенько розгами выжарили, чтобы ты рано встал, а поздно лег, ты бы так не
умничал», и указал на крепостное право. Я действительно ему за это сказал
дерзость. Он меня выгнал от себя и объявил всем: берегитесь, это опасный
еретик. Люди стали меня бояться, насмехаться, говоря, что «ты чорту душу
записал?» И стали тюкать, избегать и колоть.
А между тем, по доносу священника,
пристав прислал урядника сделать обыск. Забрали у нас с отцом все книги и дали
их рассмотреть благочинному. Благочинный посмотрев, велел отдать обратно. До
сих пор я исполнял обряды православной церкви, а тут я пошел искать тех
штундистов, к которым меня причислили, и познакомился с Иваном Якимовичем,
Херсонской губернии. Он меня принял.
Тут я стал еще более углубляться в
Писание. Некоторые из наших жителей, грамотные, решились посмотреть мои книги,
то есть Библию, и убедиться в справедливости народной молвы; и начали вникать в
Писание и согласились с ним, стали за меня. Тут и на них грянул гром укоров
молвы и насмешек. Мы не унывали: соединенные словом Божиим в одну семью, жили и
радовались и не думали обижаться на людей, оскорбляющих нас. Жили мы порознь,
только единство духа соединяло нас. Народ более и более приближался к нам, а
священник, пристав и урядник более злились и следили, и было публично обществу
приказано приставом схватывать всякого из нас в чужих домах, арестовывать и
бить, не спрашивая, не дознавая, зачем ходил к соседу или к кому другому. С
этого у нас началось страшное притеснение со стороны наших односельцев. Многие
охотники бить стали строго следить, одобряемые и поощряемые священником.
Но между тем я в себе глубоко пал: видя,
что многие со мною согласны и через меня познали волю Божию, я возгордился и
приписал себе титул проповедника Евангелия Царства Божия. Это послужило моему
падению: раньше этого я не чувствовал сильного влечения к пороку, и все прежние
страсти было меня оставили. Но тут, как я о себе высоко подумал, все прежнее
пороки снова заговорили во мне. Я не знал, что со мною делается, недоумевал,
откуда все это. Но страсти усилились и заставляли меня удовлетворять их на
деле. Я
— 86 —
долго крепился, крепился и впал в блуд и еще хуже того.
Прежде было, когда какая страсть начинала
беспокоить, я молился, и мысли переменялись и страсть
удалялась, а теперь молитвы мои были бессильны помочь, и я даже усилил их; но
все было бесполезно, страсти бушевали как волны в море, и непреодолимая сила
греха тянула меня вперед. Книга и Писание меня более не страшили и не
действовали на меня никак: я прочитывал и проклятия и другие, нагоняющие страх
тексты, но все было напрасно. Я ясно видел, что стою опять на пути погибели, и
не желал его и не хотел повторять. Порок потребовал силы воли. Я заказал себе
стоять твердо, не поддаться искушению, но не тут-то было устоять. Непреодолимая
сила греха одолевала. Я употребил пост и молитву от души и по трое суток
постился, но это все оказалось тщетно. Грех делал свое; а я, молясь со слезами
и при посте, шел и делал то, о чем стыдно говорить. Наконец все средства
истощились, грех одолел.
Я сознавал свою погибель и отчаянно
скорбел и молился. К Библии стыдно стало подступать, а с братьями —
встречаться. Все братья, и родители заметили, что со мною что-то неладно, но
мне стыдно было открыться и не знал, что делать.
Раньше родитель меня тоже преследовал руганью и побоями и настаивал бросить
Библию. Я тогда имел терпение, ничуть не противился, все переносил, а теперь не
в силах стал перенесть родителя, одно его оскорбительное слово. Все это
доказывало мое падение. Родители, увидев перемену к худшему, перестали нападать
и дали свободу.
Так прошло 1½ месяца. Я совершенно
потерял надежду на спасение от этой нечистоты; но не перестал вопить в сердце так: Боже мой, Боже, спаси, я погибаю. В
одно прекрасное время шел я полем по-за деревнею, страсти бушевали, а сердце
вопияло к Богу. На пути впереди было место греха. Я не желал его посетить, но
знал, что сил не хватит удержаться,
— 87 —
и сильно скорбел. Дорогою я вступил в мысленный
разговор с самим собою: Куда это ты идешь, Григорий? — «На беззаконие. — Чье же
это дело ты хочешь исполнять? — Дьявола. — Да! Недавно ты воображал себя
проповедником истины, как же это ты сделался слугой дьявола?» И при этом мне
стало очень тяжело на душе. Я все шел вперед. «Так, значит, ты теперь слуга
дьявола? — спросил я снова себя. — Да, его. — Сколько ты ему уже служил почти с
детства и за что же? Что он тебе дал? И какие благодеяния он оказал тебе? —
Конечно, никакие. — От кого же ты получал все доселе? — Конечно, от Бога. — Чем
же ты Его отблагодарил за все Его бесчисленные благодеяния? — Конечно,
оскорблением и отвержением Его законов и неверием им. — Он
тебя долго терпел, пока ты жил в неведении, все ожидал твоего обращения и
исправления, а теперь, когда Он сам нашел тебя в тине порока, вынул тебя и омыл
тебя, и поставил тебя на стези закона своего, ты заплатил Ему злом за все добро
и ненавистью и презрением за любовь и отверг поручательство Иисуса Христа».
При таких размышлениях тяжесть еще более меня душила. Я шел вперед. Тут опять
какая-то со стороны сильная мысль говорит мне: «Ну, иди, иди, служи дьяволу, а
Богу хоть скажи одно ничтожное слово благодарности и простись с Ним навсегда, и
тогда иди, делай, что хочешь». Мысль навсегда проститься с Источником добра
вызвала у меня слезы, и силы, меня оставили, и я чуть двигался.
Но вот в моем отуманенном воображении
ясно представился распятый Спаситель, который умирал на кресте с поднятыми к
небу глазами и молитвой на устах: «Отче, прости им, не знают, что делают». Это
как громом меня поразило, и я упал на землю; слезы меня душили. Я сказал:
«Напрасно Ты, дорогой Искупитель, проливал Твою святую
кровь за такого негодяя. Напрасно Ты умер в муках, любя меня: я презрел все Твои заслуги, и отверг Твою любовь. Напрасно спас Ты жизнь
мне, негодяю, и поручился за него. Я
— 88 —
пренебрег Твоим
поручительством и опять произвольно предался мерзости. Теперь я погиб
безвозвратно и навсегда. Скажи мне, дорогой Искупитель, за что ты меня отверг?
Я ясно видел Твою помощь на себе. Я был уже облечен
чистотою от Твоей милости. Где, все это делось? Почто
Ты меня оставил в руки врага моего? Тут одна сильная мысль со стороны говорит
мне: а где же все те силы воздержания, которые ты гордо присваивал? Где
апостольство, которым ты так возвышался над прочими? Почему же ты без меня так
не держался, как при мне? Где твои собственные силы? Я со слезами отвечал:
теперь я знаю вполне, что я в беззакониях зачат и в грехах рожден, что я
испорчен в самом основании: до мозга костей. Ты видишь, дорогой Искупитель, что
во мне добра не было, и нет, и быть не может без Тебя. А я, безумный, гордился
своею победою над пороками, и не разумел, что Ты удалил их от меня. Я всю
победу приписал себе. Ах, несчастный я негодяй,
оскорбляющий Творца и Господа своего в лицо! Но куда же я теперь пойду от Тебя?
Кто мне окажет столько помощи и благодеяний, как Ты? Как сладко было ощущать
мир душевный, который от Тебя, и как страшно опять подвергнуться этому
проклятию и укорам, которые я уже испытал. Ах, бедный
я слепец, куда мне деваться! Но молю Тебя, Владыко, Господи, если Твое милосердие простирается на таких, как я, негодяев, то
молю Тебя, не отринь меня и помоги мне!» В такой молитве я пролежал на поле с
час и поднялся. Сила тяги отступила, и я опять почувствовал внутри мир и
благоволение. Страсти удалились, силы восстановились, и порок стал для меня
ненавистен и более меня не беспокоил. Снова я возвратился к
Библии и уже не стыдно было опять читать ее, но сильно меня брало
негодование на самого себя, зачем я допустился до того, познавши Бога. И когда
я хотел молиться и читать Отче наш, то тогда меня предупреждало укоряющая мысль
со стороны, не от меня. Негодяй, мерза-
— 89 —
вец, говорила она, как же ты хочешь Источник святости
и чистоты или совершенства называть твоим Отцом? Отец ли Он тебе? Сын ли ты
Ему? Но я не отступал и молился молитвою блудного сына, а вместо «Отец»
говорил: «Творец». Стыдно, стыдно было и совестно называть Бога — Отцом в молитве.
Это продолжалось месяца три. Потом совесть умолкла, и все улеглось.
Но вот еще обстоятельство: братья
привыкли ко мне, несмотря на притеснение, часто собирались для чтения Святого
Писания и присылали за мною. Раньше я давал им, по милости Божьей, пояснение и
назидание. Но тут пошло не то: если я брался в собрании за книгу, то сейчас же
мне лез в голову один текст апостола Павла: «Как же ты, уча других, не учишь
самого себя» и т. д. (Рим. 2, 21 — 24). Тут мне ясны
стали слова Христа: «а вы не
называйтесь учителями, один у вас учитель — Христос, все же вы братья». (Матвей
23, 8). Тогда я отказывался учить братьев, а просил их обращаться за этим к
Богу сердцем и добиваться всего у Него самим: ищущий находит, а читать —
кому-нибудь.
Вот, любезный брат, каким опытом я
убедился в немощи собственных сил и в любви и долготерпении Божием. Потом
обстоятельства так сложились, что я вынужден был уходить из села. Дело было
так: сельские глашатаи стали беспокоить священника, что уже очень многие
пристали ко мне, чего и не было. Он, напуганный этим, на второй день Крещения
95 года, на проповеди стал взывать к своим прихожанам о помощи и содействии
против этой ереси, называя нас всякими срамными
словами. Если вы, говорил он, не поможете мне искоренить эту ересь, то они этот
храм опустошат и уничтожат. Внимайте, православные. Моисей велел таковых
побивать камнями. Народ, слыша, рвался сердцами. Один человек грамотный и
знающий писание, но православный, был тут же и был выведен из терпения его
проповедью. Выступив вперед, он сказал священнику:
— 90 —
«Ты чему учишь, раб ты лукавый, держишь Евангелие в
руках, чтобы учить заколу Божию, закону любви, а сам
учишь убийству. Христос учил любить и врагов, а ты учишь убивать людей, не
делающих нам никакого вреда». С тем повернулся и ушел из церкви. Народ кинулся
за ним, чтобы его тут же смять, а священник испугался, насилу упросил народ его
не трогать, а оставить на после. Разошлись по домам и
пообедали, тогда мстители собрались у дома человека того (его звали Петром) и
давай выламывать забор у его огорода. Петр вышел и спросил их, что они делают;
они вместо ответа кинулись за ним; он ушел в избу. Они вломились и вытащили его
на двор, сильно его избили, окровавили и, оставив без чувств, ушли. Когда он
пришел в себя, то пошел к священнику и говорит: «Смотри, пастырь, что овцы
делают; от века не слыхано, чтобы овцы волков терзали,
а теперь время пришло, что овцы волков терзают, аж кровь бежит». После Петра
предали суду за нарушение в церкви порядка. Его окружный суд судил на 2 недели
под арест. Но с этого разыгралась ярость толпы; стали нападать на всякого
замеченного в том и арестовывать и бить. Все описывать долго и трудно, довольно
того, что всяк, кто вслух высказывал сострадание к
нам, тех толпа схватывала и била.
Все были биты, а я еще не был, но вот
добираться стали до меня. У меня меньший брат родной, Осип, владел хорошей
физической силой, немного выше обыкновенного. Это-то их и удерживало от
нападения на дом, а я сильно берегся, никуда не ходил, а на ночь покрепче
запирались. Все их уловки и козни ничего не помогли. Полицейский урядник вызвал
меня и еще двоих в становую квартиру и обязал подпискою не отлучаться, а при
нас послали десятского. Оттуда нас десятский понуждал ехать ночью домой. Вот мы
ночью подъезжаем к своей деревне, у десятского заговорила совесть. Он нам
сказал, что тут на нас засада, готовые нас изу-
— 91 —
вечить, и предоставил нам свободу спасаться. Мы по-за
деревнею заехали с другой стороны и проскочили благополучно; тут же по следам
пробежала обманутая засада, и двое друзей были взяты в ту
ночь и один из них был избит, а другой отпущен. За мною приходили раза
три, но вломиться не посмели, отложив до завтра.
Родители сильно были огорчены и встревожены, плакали всю ночь и просили меня
удалиться, куда-нибудь скрыться. Я вынужден был уступить им и за час до света
убрался из дому и пробрался в Одессу.
Горькая жизнь последовала в Одессе без
паспорта и денег зимою. Но Господь чудно помогал мне и поддерживал меня Своею милостью. Тут я ясно на опыте узнал, что значит: «все
заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петра 5, 7), что,
действительно, без Его попечения я очень, очень
наголодовался бы и набедствовался. Но Он был мне утехою. Так я там прожил 7
месяцев.
А тут в деревне на завтра обшарили за
мной, — меня нет; пождали день, другой, покараулив, — нет меня. На третьи сутки
ночью взяли родителя и брата в сельскую расправу и там избили обоих очень
сильно. Брату, как сами сказывали, дали 400 палок и пробили в трех местах
голову и сильно помяли ногами грудь и живот, от чего родитель через три месяца
поправился, а брат через полтора года умер; все время болел до смерти. Я
приехал было домой, но вынужден был опять убраться от греха.
В 95-м году я судился окружным судом за
совращение других. Но 1-й манифест Николая II простил меня и освободил от 6-месячного заключения. С
тех пор я и не жил в деревне более году, до смерти брата; паспорт мне дали, и я
проживал в Одессе. Прочие братья тоже поуходили от греха, разорялись по разным
местам.
Но вот ко дню смерти брата я воротился
домой. Брата схоронили, остаюсь я один при родителях, но полиция сельская не
дает покоя, охота поглумиться да потешиться надо
— 92 —
мною. Я занес
жалобу исправнику, и тот действительно унял их. Видя, что ихняя
не берет, через три недели поехали к следователю, священник, псаломщик и 8
крестьян, и обвинили меня в богохульстве, которого я сам берегся как огня,
несколько лет. После, по прибытии, на 28-й день повесткою был позван к
следователю и более не увидел родительского дома. На третий месяц судили в
отдаленные места Сибири, а через четыре месяца после суда, — в путь.
Трудно было, братец, нести 7-фунтовые
кандалы за 6000 верст и целые полгода не снимать с ног.
Дотоле я жил в своей стороне и знал
только две секты: штундистов и баптистов. Я избрал секту баптистов и был ими
принят. Но я сильно ошибся тем, что почитал одних баптистов ближе всех к истине
евангельской. Но вот в пути-то мне это выяснилось. В партии я встречался со
всякого рода сектантами, как то: с духоборами,
молоканами, хлыстами, беспоповцами, субботниками двух разрядов —
ветхозаветниками и новозаветниками — и многими другими. Вот начнутся
бывало у нас толки, беседы, споры и доводы, и меня сильно опять все это
печалило. Я должен сражаться с другими и доказывать не правоту учения Иисуса Христа, а правоту незнания своей секты, и тем
преступать учение Христа, которым хвалился. И возненавидел я все секты, то есть
рамки, в которых большая или малая партия людей заперлась и сидит, защищает
свою рамку, ожидает, пока все перейдут к ним.
Я снова стал вопиять к Богу в сердце
своем и по некоторому времени пришел к заключению, что нам нужно, и что
проповедано Иисусом Христом. Им проповедана не какая-нибудь рамка или религия
сухая, обрядовая, а вот что Им проповедано: Возрождение
от Духа Божия для новой жизни, в чистоте и непорочности любви друг к
другу, как дети Божии, как сыны Божии благородны, непорочны и святы, и добры, и
совершенны, как Отец небесный совершенен, чтобы всякий сознал, что он на земном
шаре царь при-
— 93 —
роды, первый по Боге владыка
видимого мира. Вот почему апостол
Павел говорит: «ибо в вас должны быть те же чувствования какие во Иисусе Христе» (Филип. II, 5), а Его, Христа, называет образом
Бога-вседержителя. То мы должны
помнить, что мы почтены образом Божиим, что и мы должны приобресть себе
качества добра, какие у Бога. А все обряды и рамки, и разделения должно
отодвинуть на задний план. Они все бесполезны и суетны. Христос нас уверял, что
Бог Отец, которого Он лучше всех познал, забыл, изгладил Своею
милостью все грехи наши, и что воля Его в том, чтобы мы все, по примеру Иисуса
Христа, стряхнули с себя все мерзости и пороки и были разумны, любезны,
благородны, добры, как сыны Божии. Вот как по-моему
следовать Христу.
Но еще вот важность. Бог видел, что люди
сильно испорчены и бессильны сами в себе исправиться.
Он даровал через Иисуса Христа силу побороть порок. Эта частица силы духа от
Бога есть благодать. Вот, братец, что мы должны сознать, но только не
обманываться, не возродившись, не очистившись, чтобы не приписывали себе этого
звания сынов Божиих. В этом смысле верно: «Если кто духа Христова не имеет, тот
и не Его сообщник, а если дух Христа, дух сына Божия в нас, то тело мертво
будет для всякого порока и низости, непристойной детям совершенного Бога, а дух
будет жив на все добро и чистоту» (Рим. 8, 9, 10).
Теперь, братец, Иван Михайлович, я смело
объявляю, что я не принадлежу ни к одной из религий. А свободно хочу быть
христианином, другом Христа Иисуса, по Его примеру жить, где бы я ни жил, в
чистоте и непорочной совести! Обряду не придаю никакого значения, но и не
осуждаю никакого обряда. Ибо, когда человек возродится, то он сам поймет, чего
ему держаться. Желаю всем людям возродиться от духа, по примеру и помощи Христа
Иисуса.
На пути в Сибирь еще я боролся с двумя
пороками. Первый — худые мечты, а второй — тщеславие.
— 94 —
Первый являлся так. Приходит худая мысль
и просит меня: прими меня к себе, впусти на минуту в себя, немного помечтаем о
прежних греховных удовольствиях и ладно; когда ты захочешь, тогда я уйду. Я,
обманутый ею, впускал ее и соглашался помечтать. Но только я ее впустил, сейчас
какой-то туман охватывал меня и ввергал на несколько
минут в забвение. Но когда опоминался, видел, что она не немного, а заняла меня
всего и вынуждает мечтать, а потом и делать этот порок. Я тогда хочу
избавляться, но некуда. Хочу ее выдворить, но нет силы. Оказывается, что не она
в моих, а я в ее руках. И потом стоит много труда и молитв, и раскаяния, пока
ее выдворишь. После я, наученный опытом, прогонял ее при появлении.
Другой порок приходил
так: если я имел случай поговорить устно или письменно с кем о Царствии Божием
и доказать ему, тут является худая мысль и говорит: и вправду ты ему хорошо
доказал, ты небось не простой, не такой, как прочие и начинает меня предо мной
возвышать и подымать, удалять от простоты во Христе. Я научился отклонять ее так: припоминаю все прежние
мои пороки и говорю: «кого ты хочешь возвышать, блудника, нечестивца,
содомлянина? Убирайся прочь, мне возвышение не следует». И так она удаляется.
Потом еще боролся с
сластолюбием и невоздержанием в пище. Но в этом немного Бог помог, пока еще
неокончательно. А теперь еще три меньших порока борят меня, но еще ничего не
видно, что будет. После извещу вас.
Вот как, любезный брат, Господь Бог вел
меня доселе к самоусовершенствованию, о котором вы мне когда-то упоминали в письма что и возбудило у меня желание узнать ваш путь к
этому усовершенствованию, и при том пожелали сообщить вам и мой путь к тому же
предмету. Но прошу вас, не приписывайте мне ничего, верьте, я ничего этого
своею силою
— 95 —
не добыл, все Бог указал, а я только смотрел да
следил. Не знаю, как Господь дальше управит.
Загадывание вперед тоже зло. Я это
изведал опытом в пути в Сибирь; дорогою я было впал в
это: как я освобожусь; чем я буду заниматься? как я буду там жить? Мне не надо
было думать о том, но я, по примеру других арестантов, занялся этими
мечтаниями. Они так усилились, что разломали мне всю голову и удалили мир
душевный и спокойствие, и надежду на Бога, и наполнили меня пустотою, и удалили
от добра и Бога. Некоторое время владели мною дней пять, и много труда стоило
выжить их от себя и возвратиться к спокойствию. И удалил их, как и все прочие
пороки, не я, но сильный Владыка — Бог, а я только прибегал к Нему с
извинением, что допустил до себя порок, и с просьбой о помощи и освобождении. И
Он, по Своей милости, освобождал меня и даровал снова
мир и благоволение.
Вот, братец, какая любовь великая к нам
Бога, объявленная через Иисуса Христа, во что мы без сомнения можем верить, по
слову апостола Иоанна: «И мы познали любовь, которую
имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоан. 4, 16).
Вот наша вера и путь к совершенству.
Января, 1900 г.
«Что такое "сектанты" и чего они хотят?»
Изд: «Что
такое "сектанты" и чего они хотят?», вып. I,
с пред. И.Ф.Наживина, М., «Посредник», № 661, 1906 (на обложке —
1907).