Михаил
Александрович Таубе
Христианство
и международный мир
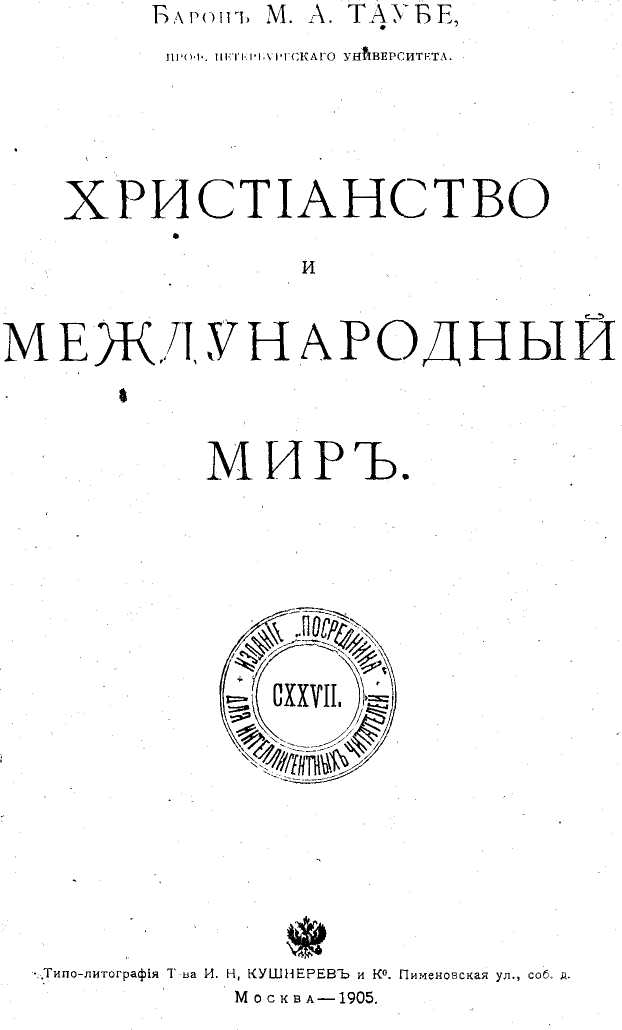
Дозволено цензурою.
С.-Петербург, 2 декабря 1904 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
———
Настоящий очерк представляет
собою популярную переработку вышедшей в конце 1902 года отдельным изданием первой
главы III-го тома специального историко-юридического исследования,
предпринятого автором еще в 1894 году и посвященного истории возникновения современного
международного права 1).
Эта отдельная глава — под названием „Христианство и организация
международного мира" имела в виду выяснить интересный и мало до сих пор
затронутый в науке вопрос о влиянии христианства, как нового нравственного учения,
внесенного в мир Христом, на выработку своеобразной идеи международного общения
и мира, сложившейся в средние века в романо-германской Европе, откуда ее
наследовала — в теории — и современная нам международная жизнь.
Изложенные в названной работе выводы
автора, особенно по вопросу о воззрениях первоначального христианства на войну,
заинтересовали, повидимому, не только специалистов международного права, но и
большую публику, и мы решаемся теперь выпустить в свет новое издание своего очерка,
предназначенное для более обширного круга читателей.
———
1) История зарождения современного международного права
(средние века). Том I (Спб. 1894). Том II: Принципы мира и права в международных столкновениях средних
веков (Харьков, 1899).
— 4 —
Соответственно этой новой цели, наша
первоначальная работа должна была подвергнуться весьма существенной переделке.
Прежде всего из нее, естественно, пришлось выпустить
не только почти весь подстрочный материал ссылок на литературные пособия и в особенности
на источники 1), все греческие и латинские тексты и проч. (для
ознакомления с которыми мы отсылаем читателя к первоначальному изданию), — но и
те части изложения, которые имели интерес, собственно, лишь для общего хода
всего нашего исследования о зарождении международного права и не касаются
непосредственно интересующего нас здесь вопроса о значении первоначального христианства
в истории развития идеи международного мира. С другой
стороны, становясь специально на эту последнюю точку зрения, мы должны были
дополнить свою статью некоторыми замечаниями, сделанными нами еще в 1894 году (в
I томе работы, в главе
„Историческое значение древнего мира и христианство) по вопросу об отличии учения
Христа в рассматриваемом отношении от некоторых других великих морально-религиозных
или философских систем древнего мира.
Вместе с тем для нового издания нашей
статьи представилась возможность воспользоваться — и притом, кажется, в смысле
еще большого укрепления ее выводов — данными некоторых новейших научных трудов,
вышедших одновременно с нашей работой. Мы имеем здесь главным образом в виду
интересное исследование А. Бигельмайра об участии христиан в общественной жизни
до Константина В. 2), в котором отношению первоначального христианства
к войне и военной службе посвящена особая глава, а также последний капитальный
труд известного профессора Берлинского университета А. Гарнака: Die Mis-
———
1) Подстрочные ссылки в настоящем издании указывают
большею частью на новый, не вошедший в первоначальное издание материал.
2) A. Bigelmair. Die
Beteiligung der Christen am öffentlichen Leben in vorconstantinischer
Zeit. München, 1902.
— 5 —
sion und Ausbreitung des Christenthums in den ersten drei Jahrhunderten. (Leipzig, 1902.)
Едва ли нужно удивляться, — заметим здесь
же, — что знаменитый профессор, который, впрочем, только мимоходом затрогивает интересующий
нас вопрос, не находит возможным открыто и категорически признать совершенно
отрицательное отношение первых христиан к войне. Родина современного милитаризма
— едва ли подходящая для таких выводов почва. Здесь все еще
пользуется наибольшим сочувствием старый аргумент, будто из молчания Евангелия специально
о войне следует вывести, что „Новый Завет ни в каком случае войн не запрещает"
(бар. Штенгель, Der ewige Friede, München, 1899, стр. II). Как будто даже
при открытом запрещении войны в Евангелии люди не
сумели бы перетолковать какой угодно текст в смысле
полного ее дозволения!..
Как бы то ни было, дальнейшее изложение
покажет, что, в отличие от позднейших изворотов и ухищрений, взгляды христианских
писателей первых веков по рассматриваемому вопросу достаточно сами по себе
определенны и красноречивы. Приводимые нами тексты убедительнее Гарнаков и
Штенгелей, и истина — не на стороне последних.
С.-Петербург.
28 августа 1903 г.
———
ХРИСТИАНСТВО
и
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИР
Христианство и международный мир.
———
Среди религиозного фанатизма
и ненасытных династических аппетитов XVII века,
когда, то во имя Христа, то во имя „Короля-Солнца", так же легко
опустошали Европу, как в наше время она готова залить кровью весь мир ради
новых рынков или золотых приисков, — среди этой темной ночи почти
непрекращавшейся международной резни „великого века" как светлые звезды
мерцают давно забытые имена мечтателей-философов, строивших благородные, но неосуществимые планы всеобщего умиротворения. От
Сюлли и Эмерика Крюсэ до Бентама и Канта 1), их ряд идет без перерыва
через два столетия: это — так называемые „иренисты". И этим наивным теоретикам
международного мира в эпоху королевского абсолютизма и религиозных войн грезился,
как духовный родоначальник, один великий, казалось им, иренист давно минувших времен.
Но не Христос и не Будда. Людям, вышедшим из Возрождения, грезились фигуры
классического мира. И в мечтах о постоянном международном суде или о
соединенных штатах Европы перед филосо-
———
1) Авторы различных проектов вечного мира в начале XVII и конце XVIII
столетия. В русской (популярной) литературе см. о них у
гр. Л. Камаровского: „Успехи идеи мира" (М. 1899), также у В. Гессена: „О
вечном мире" (Спб. 1899). Любопытное сопоставление отзывов публицистики
конца XVIII века на проект Канта (1795) дает недавно вышедшая
брошюра Paul Meyer: Die Idee des ewigen Friedens bei Kants Zeitgenossen. (Berlin, 1903.)
— 10 —
фами и публицистами XVII столетия носился образ Кинея, друга и
советника царя Пирра 1).
Узнав о приготовлениях своего царственного
друга к походу в южную Италию, — рассказывает о Кинее Плутарх 2), — философ
задает Пирру ряд смущающих царя вопросов: „К чему повелителю Эмира „великая Греция"?
Чтобы итти дальше, на Рим? Но, положим, захвачен и Рим, завоевана вся Италия, —
что же дальше? Господство над Испанией, Карфагеном, Африкой? Пусть и они
завоеваны, — но что же потом предпримет великий царь? — Тогда в славе и богатстве я буду отдыхать от своих побед, — отвечает
Пирр. — Но кто же мешает тебе, забыв о военных приключениях, теперь же начать с
этой конечной твоей цели? — возражает Киней..."
В противоположной воинственному задору
Пирра идее международного мира, высказанной Кинеем за 300 лет до Р. X., иренисты XVII века
искали себе поддержки и утешения. Но в желании отыскать своих моральных предков
они могли бы, конечно, пойти и дальше в глубь истории — с большим успехом для
исторической достоверности найденных фактов, с одинаковой бесплодностью для
современной практической жизни.
Действительно, идея международного мира
столь же стара, конечно, как и самая война. Это — коррелятивные понятия, единый
двуликий Янус, как думали в Риме, или — „мир до рати, а рать до мира", — как
говорили на Руси 3). В глубочайшей древности, у самых диких народов,
на первых ступенях человеческого развития, простая экономия личных, семейных,
родовых, племенных, государственных, международных сил должна была подчас заста-
———
1) По имени Кинея назван один из первых планов
всеобщего мира, а именно проект упомянутого выше Эмерика Крюсэ (Crucé): Le nouveau
Cynée (1622). См. о нем монографию Th. W.
Balch: Emeric Crucé (Philadelphia, 1900) и статью I. Kegnier в «Nouvelle Revue», 1903, 1 Juillet.
2) Vita Pyrrhi, XIV,
4-8.
3) Ипат. лет., 38.
— 11 —
влять людей так же страстно желать мира,
как в другое время грубое сознание своего интереса, чувство хищника побуждало
их к войне — к уничтожению себе подобных для завладения их имуществом, скотом,
пастбищами, женами, детьми. И, смотря по обстоятельствам, гимны войне сменялись
гимнами миру. Вот почему, несмотря на все варварство этих отдаленных времен, мы
можем проследить идею мира уже в глубочайшей седой древности Востока — в иероглифах
египетских храмов, в священных книгах евреев, не говоря уже о гениальных творениях
мудрецов и поэтов светлой, блестящей Эллады или философов и юристов железного,
властного Рима. А между Кинеями этого античного мира, пытавшимися остановить Пирров,
и Кинеями Возрождения, желавшими перекроить карту Европы так, чтобы раз навсегда
удовлетворить все народы и подарить им вечный мир, — ярко светится образ Того, чье имя еще у многих на устах и чье учение почти
всеми забыто...
И вот невольно возникает вопрос о месте
христианства в истории тысячелетних стремлений человечества от разобщенности и взаимного
истребления народов к единству и миру. В чем, спрашивается, отличительная черта
христианства с этой точки зрения, сравнительно с античным миром, в чем его
принципиальное значение в истории идеи международного мира?
———
I.
С идеей постоянного мира между народами
история сталкивается в первом же дошедшем до нас международном трактате древнего
мира. На стенах карнакского храма в Египте до сих пор сохранился высеченный в камне
иероглифический текст союзного договора, заключенного между египетским царем
Рамзесом II и царем хеттеян около 1300 г.
до Р. X. 1), в разгар многовековой борьбы между
Египтом и Сирией, столкновениями которых и
открывается, собственно, международная история человечества. И вот в этом древнейшем
договоре двух старых соперников из-за главенства в передней Азии мы находим удивительное
по идее, для XIV века до Р. X., условие о сохранении мира между обеими странами и
их народами на вечные времена, с взаимным отказом от набегов друг на друга.
Та же идея вечного мира просвечивает,
несмотря на совершенно противоречащие ей явления государственной и
международной жизни, и в других случаях среди самых разнообразных культурно-исторических
условий, на почве самых разнородных цивилизаций. Так, в эпоху
———
1) Полный текст этого договора в немецком переводе
издан в 1898 г. Рудольфом фон Скала (R. v.
Scala: Die Staatsverträge des Altertums,
1, стр. 6 сл.) и в 1902 г. известным, ныне умершим, ориенталистом
Максом Мюллером (в 5-м выпуске «Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft»
за указанный год), который почему-то считает свой труд первым опытом перевода
этого памятника на немецкий язык. К переводу М. Мюллера приложен полный
снимок с подлинного иероглифического текста.
— 13 —
не менее бурную в жизни
передней Азии, чем время египетских Рамзесов, на рубеже VII и VIII столетий до
нашей эры мы слышим настоящий гимн миру в Иудее из уст одного из величайших пророков
еврейского народа, Исайи, который развертывает перед нами грандиозную картину
мира всего человечества (гл. II), переходящую
затем в картину мира всей природы (гл. XI). В Греции,
разъединенной и раздробленной на множество отдельных, враждебных друг другу
городов-государств, мы встречаемся, еще в V веке до Р. X., с чрезвычайно
любопытным проектом, приписываемом Периклу: его занимала мысль о собрании
обще-греческой конференции мира. Знаменитый афинский государственный человек предложил
именно, по словам Плутарха 1), устроить съезд представителей всех греческих
городов-государств, как европейских, так и азиатских. И большие и малые городам
должны были прислать в Афины делегатов для совместного обсуждения различных вопросов,
касающихся всех греков, в особенности же вопроса о свободном для всех мореплавания
и об общем мире. И действительно, во все концы Греции и в ближайшие греческие
колонии было разослано 20 гонцов с приглашениями на конгресс мира. Предприятие,
однако потерпело неудачу, — повидимому, из-за
подозрительности и противодействия спартанцев.
То же стремление к миру (не говоря уже о
целом ряде других выдающихся поэтов, философов, историков и ораторов Греции) мы
находим в особенности у Платона. Родившийся в год смерти
Перикла (429), он как бы переносит мысль последнего, неудавшуюся на практике, в
область чистых идей. Такова его греза об „Атлантиде" — мечта об идеальной
стране, в которой все цари объединены в одном союзе и решают свои споры на
общем суде. Наконец, несколько десятилетий после
———
1) См. „Жизнеописания Плутарха", в переводе В.
Алексеева, т. II, вып. 2, стр. 147 — 148 (СПБ.
1891).
— 14 —
Платона, циник Кратес, ученик Диогена и
учитель Зенона, основателя стоической школы, точно так же рисует нам идеальное
государство — город Безас, граждане которого, живя среди богатейшей природы,
никогда не ведут войн и пользуются постоянным миром.
В благородных намерениях или мечтах и в платоническом
прославлении мира не было, таким образом, недостатка еще за
много веков до Р. X. Однако,
все это не мешало античной международной жизни быть построенной на началах, диаметрально
противоположных идее мира. Действительно, ни признание, путем
обычая, в кругу государств древнего мира некоторых элементарных понятий
международного права (напр., неприкосновенности послов), ни наличность среди
государств единоплеменных, принадлежавших к одной и той же национально-культурной
группе, известных положений международного (между-государственного) права, каковы,
напр., правила так называемого „общего закона греков" среди греческих городов-государств,
— не доказывают еще, конечно, что древний мир достиг уже той — весьма еще,
впрочем, несовершенной — общности мирных культурных интересов, которая
лежит в основе „международного общения" нашего времени. Древний мир не
знал культурной солидарности между народами, не успел развиться до мирного (в виде
общего правила) существования друг возле друга целого ряда независимых государств.
Глубоко чуждые один другому по своей цивилизации, античные государства
поставили законом своих взаимных отношений национальную исключительность,
разобщенность, непримиримую вражду. Война, по общему правилу, царит среди народов
древности. Египет, Ассирия, Вавилон, персы, македоняне, римляне это ряд поглощающих
друг друга непримиримых врагов, идеалом которых было не общение с себе подобными, а порабощение всех, всемирная монархия. A при
таких условиях идея права и равенства между народами,
— 15 —
идея международного мира, оставалась,
вообще говоря, глубоко чуждой и непонятной древнему миру.
В самом деле, совершенно отрицательные воззрения
даже такого передового народа древности, каким были греки, на международные отношения
в собственном смысле слова, на отношения к народам вне греческого мира, стоят вне всякого сомнения. Величайшие умы древней Эллады
принципиально отрицают всякую равноправность между греками и „варварами".
И Сократ, напр., прямо говорит, что „греки настолько же выше варваров,
насколько люди выше животных". Эврипид резко и многократно выражает мысль
о коренной противоположности между греками и иностранцами, провозглашая, что
„эллинам подобает властвовать над варварами", а Аристотель, цитируя великого
поэта, прибавляет, что „варвар по природе то же, что раб". А известно, что
в древнем мире раб — не субъект, а объект права. Вывод отсюда для международных
отношений ясен: с неравными себе, не равноправными единицами стесняться грекам не
приходится, — и великий греческий историк Фукидид подмечает в современной ему
междугосударственной практике тот страшный для понятия „права" принцип,
что единственным двигателем поведения государя или правительства
является польза государства: все дозволено, что только полезно.
При таких взглядах никакого правильного мирного
оборота между греческими государствами и внегреческим миром установиться,
конечно, не могло. „По самой природе, — говорит Демосфен, — варвары ненавистны
грекам". По самой природе, — говорит один из участников диалога Платона о „Законах",
— между всеми государствами царит война, а мир — один пустой звук. Правда, цитируя
этот последний текст, следует тотчас же сделать оговорку, что, как мы видели,
идеалы самого Платона шли, конечно, гораздо дальше фактов печальной действительности.
Но тем не менее, отрицать эти факты и наличность у его
современников общих взглядов, совершенно
— 16 —
противоположных его собственным воззрениям, Платон, конечно, не мог и
не отрицал. С этой точки зрения для фразы „Законов" о
естественной войне между государствами найдется совершенно параллельное место в
другом трактате великого философа — в его „Государстве": подробно выясняя
устами Сократа разницу „междоусобий" греческих городов-государств и „войн"
их с вне-греческим миром, с „варварами", Платон опять повторяет, что
„когда эллины сражаются с варварами и варвары с эллинами, мы назовем их воюющими
в собственном смысле и врагами по природе".
Равным образом и Аристотель, исходя из своих,
указанных выше, воззрений на варвара как на раба, провозглашает „законной по
самой природе", подобно охоте за дикими зверями, всякую войну,
направленную к подчинению варваров грекам. Наконец, ту же
мысль, и притом как нельзя более ясно и определенно, подтверждает нам и Ливий:
„с иноплеменниками, с варварами у греков идет и будет итти вечная война, — говорит
у него Филипп Македонский на Этолийском союзном собрании: ибо они враги по
самой природе, которая неизменна, а не по каким-нибудь преходящим причинам".
Нечего и говорить, что еще более резки
должны были быть взгляды менее культурных, чем греки, народов древнего мира. В глазах
индуса иностранец (млетча) нечист, и в иерархии живых существ занимает место
выше лишь хищных зверей, но во всяком случае ниже слона
или лошади. Равным образом и в отдаленные времена Рима „иностранец" и
„враг" синонимы; а к настоящим „врагам", с которыми Рим вел
вооруженную борьбу, господствующие взгляды и в позднейшие эпохи прилагали понятие
„беззаконной войны", Mars exlex: „что бы я ни сделал с врагами, право войны меня
оправдывает" (Ливий). — Все это вместе взятое и обусловливало собою,
конечно, невозможность образования среди античных народов какого-либо мирного общества
или
— 17 —
семьи равноправных и солидарных между собою
государств.
Правда, была и в истории
древних народов эпоха, когда могло казаться, что устанавливавшееся на практике
политическое равновесие нескольких почти одинаково сильных государств, — которое
уже привело их к сознанию необходимости так или иначе уживаться друг возле
друга, — приведет также и к признанию нормальности состояния международного мира
и к выработке между ними известной твердой системы норм права. Мы говорим об эпохе, следовавшей за распадением великой
монархии Александра Македонского (III — II вв. до Р. X) и
давшей материал для международно-правовых наблюдений Полибия.
Его время представляло
собою в античном мире ту характерную эпоху, когда, в зависимости от значительно
изменившихся, сравнительно с предшествовавшим периодом, политических условий,
отношения между государствами приняли новый оборот, по внешности весьма схожий
с картиной современной нам международной жизни и способным, казалось, дать
известный материальный субстрат для этой загоравшейся уже, как мы видели, то
тут, то там идеи международного мира.
Восточная половина известного тогда мира,
едва объединенная под властью македонян (Александр Великий), только что
распалась в несколько отдельных,
приобщенных к единой греческой культуре, независимых государств (диадохи). На
почве той же эллинской цивилизации появляются именно три сильных „великих державы"
— Македония, Сирия, Египет, тогда как в западной части Средиземного моря
политическое равновесие поддерживается двумя одинаковыми по силе соперниками — Римом
и Карфагеном. А вокруг этой античной „пентархии", дополняя собою внешнее сходство международного строя того времени с
нашим, группируется ряд более мелких государств — царства Понтийское, парфяне,
Пергам, Нумидия и
— 18 —
пр. Такова „система государств" бассейна
Средиземного моря в III—II вв. до Р. X.
Взаимные отношения
входивших в нее государств не могли не возбудить мысли о юридическом анализе этих
отношений, и вот логически последовательно, в той самой культурной среде,
которая уже выработала на практике своего рода местное международное
право — право „общегреческое", делается теоретическая попытка
распространить его принципы на весь тогдашний цивилизованный мир, т.-е.,
другими словами, превратить это местное право в междугосударственное право всеобщее. Таково, по
нашему мнению, в общих чертах значение Полибия с международно-правовой точки зрения.
Исходя из отдельных положений „общего права
греков", Полибий, который в области политики выставляет уже принцип равновесия
держав; в области права кладет основание для конструкции теории действительно
международного, в нашем смысле слова, права — „общего права всех людей", —
т.-е. норм обязательных для всех государств тогдашнего мира. Теория Полибия,
явившаяся результатом взаимодействия между идеями гуманного греческого мира и
факта международной жизни того времени, пришли, однако, слишком поздно в политически
умиравший уже греческий мир.
Вместо целого круга государств, среди
которых могли бы найти себе приложение международные нормы Полибия, жизнь
выдвигала все более и более на первый план единое государство Рима. Вокруг Средиземного
моря один независимый государственный организм за другим перестает существовать,
переходя под власть Рима, и этот процесс объединения заканчивается уже, как известно,
к I веку до Р. X.
Совокупность воль членов „концерта" античных государств (как он начал было
осуществляться на практике) растворяется в единой воле сената и римского народа,
и таким образом „общие всем людям нормы" получают осуществление не в форме
вы-
— 19 —
шедших из „общего права греков" теоретических
построений греческого историка, а в фактическом объединении всех людей под общею
государственною властью Рима. А единая всемирная империя означала уже, конечно,
невозможность международного общения и права: мировое государство и международное
правопонятие, исключающие друг друга. Правда, установившийся таким образом внутри
всего круга народов бассейна Средиземного моря, мир — „pax romana, pax festa"
(римский мир — мир прочный) — явился для подчиненных Риму народов цивилизующим фактором
первостепенного значения, но с точки зрения
международноправовой это был тем не менее фактор,
конечно, отрицательный. С этой точки зрения, для международного
мира, роль Рима, несмотря на все дифирамбы римскому миру со стороны античных писателей,
представляется не более как грубым насилием сильного над слабым, порабощением путем
оружия соседних государств, — тем, к чему с большим или меньшим успехом
стремились раньше и фараоны Египта, и деспоты Ассирии, и Кир, и Александр Македонский.
Ясно, что те страны, которые были поглощены в единой „мировой" империи
Рима, тем самым должны выйти из сферы междугосударственной жизни того времени,
— а на границах этого мирового государства тем временем все-таки продолжает царить все та же „вечная война" римлян с „варварами".
И те, кто стояли на этих границах, могли с полным правом бросить в глаза римлянам
с их подавляющим „величием римского мира": „Грабители мира, которых не мог
насытить ни Восток, ни Запад, превращают все в пустыню — и зовут это миром"
(Тацит).
Последовательно и успешно развивая общую
всем народам древнего мира идею крайнего государственного эгоизма, Рим достиг таким образом той цели, к которой все они стремились,
но его государственный мир уничтожил самую идею мира международного. Единение
народов
— 20 —
древности было, одним словом, в конце концов достигнуто не в форме мирного свободного союза
солидарных и равноправных государств, а в форме принудительного объединения в единой
всемирной империи. Начавшая уже было формироваться идея
международного мира заглушается фактом мира общенародного, насильственно
навязанного всему „кругу земель" оружием Рима: всемирное государство — и в
нем pax romana — „римский
мир".
С этим фактом мы должны считаться уже к I веку до Р. X., и
такое положение длится без перерыва до самого конца языческого мира.
———
II.
В уровень с фактами международной жизни
древнего мира движется и античная мысль.
Интегрирующие стремления различных народов
и завоевателей древности, так удачно осуществленные в конце
концов в свою пользу Римом, как бы отражаются в стремлении религиозно-философской
мысли объединить человечество в понятии единства всего мира — равенства всех людей
и, следовательно, братства всех народов.
В трех различных очагах древней культуры
— в Иудее, в Индии и Греции — последовательно возникли три великих религиозно-философских
системы, поднявшиеся до идеи общечеловеческого равенства, столь необходимой для
понятия международного мира и права. Эти системы были: мозаизм, буддизм и
стоическая философия 1). Их краткий разбор с интересующей нас здесь
точки зрения необходим для выяснения того, что нового привнесло впоследствии христианство
в существовавшие уже до него идеи общечеловеческого равенства и международного братства
и мира.
———
1) Мы не касаемся здесь четвертой великой
морально-философской системы древнего мира — китайского учения, в особенности
Конфуция и Лао-Тзе, так как вследствие полной обособленности Китая учение это
исторически не оказало влияния на религиозно-моральную эволюцию остальных народов
и, как известно, сделалось предметом изучения со стороны европейского мира только
в новое время. — Превосходный очерк его см. у П. Буланже: „Мудрость народов Востока. Вып. I. Жизнь и учение Конфуция. Со статьею Л. Н. Толстого. Изложение
китайского учения". М. 1904. Издание «Посредника».
— 22 —
На долю еврейского народа выпало
сохранение великой идеи монотеизма. Нигде в древнем мире, ни в каком таинственном
космогоническом учении, спрятанном жрецами под покровом мифов, суеверий и
языческого культа, мысль о Едином Боге, как Творце вселенной, не выражается с такою
ясностью, как в религии Моисея. To, что в Египте
было дocтoяниeм немногих посвященных, которые в глубине храмов и среди мистерий
сообщали свою мудрость ищущим, то один из этих египетских жрецов (каким он был по
воспитанию), иудей по происхождению, навсегда утвердил своим Пятикнижием как достояние
целого народа. Выходя из этого основного понятия о Едином
Боге, религиозная система мозаизма логически должна была прийти к признанию
братства всех людей. Безусловно проводя уже принцип религиозного равенства
(евреи отбрасывают восточную касту) и стремясь
основать даже равенство гражданское (годы субботний и юбилейный для уравновешения
социального положения; ограничение добровольного рабства 6-ю годами), религия
Ветхого Завета не могла не признать в теории и равенство всех людей вообще, как
детей того же Бога-Творца. И вот из племенного еврейского бога Иегова
постепенно превращается в Единого Бога всего человечества 1). Однако
эта высокая идея, находившаяся в зародыше в религии евреев и развиваемая пророками,
была не по плечу для целого народа: евреи еще не стояли на той ступени развития,
когда народ способен до нее подняться. В результате — доктрина мозаизма в ее целом
не могла отрешиться от общего всему древнему миру узко-национального характера,
и в сознании народа Иегова остался национальным
———
1) Ср. замечательную статью «The God of Israel» y Joseph Jacobs, Jewish
Ideals (London, 1896,
стр. 35), где превращение Иеговы из «tribal god» в «Universal Father»
объясняется как постепенный вывод из специфически-морального характера
еврейского Бога еще по Пятикнижию Моисея, стр. 31—33.
— 23 —
божеством маленького избранного племени, а
не Богом-Отцом всего человечества.
Принцип равенства людей был провозглашен и
в другой религиозной системе, в той системе, которая явилась отрицанием безжизненного
формализма браманов. Около пяти веков до нашей эры Индию, эту страну браманизма
с его несокрушимыми кастами, огласило новое учение: Гаутама, прозванный Буддой
(мудрым), сын одного из индийских князьков, явился проповедником неслыханной
доктрины, в основе которой лежит тот же элемент реакции против внешней
формальной набожности, что и в христианстве, то же требование „милости хочу, а
не жертвы". В этом отношении буддизм может выдержать самое строгое сравнение
с христианством. Он точно так же есть прежде всего
моральный закон, религия нравственности. „Судра, — говорит Будда, — который
проводит свою жизнь в добрых делах, есть браман. Браман, который живет не так,
как следует, есть судра и даже хуже, чем судра". Таково это революционное
по отношению к браманизму учение: любовь к людям, добрые дела решают весь
вопрос, происхождение ничего не значит, каст нет. Подобно Иисусу Христу, Будда
провозглашает основанное на любви равенство людей; это учение, подобно
христианскому, не имеет непосредственною целью вторгнуться в социальные отношения
людей; равенство здесь прежде всего только религиозное,
но неизбежно, как и в христианстве, оно должно было привести к провозглашению
принципа равенства вообще, равенства всех людей всего мира.
Такова чисто моральная, духовная сторона
буддизма, поднимающая его до уровня учения Иисуса
Христа. Однако есть и другая характерная его особенность, в которой мы видим существенное различие между буддизмом и христианством и
которая не замедлила отозваться на всем жизненном строе буддийских обществ
на практике. Дело в том, что, по учению Сакиа-Муни, весь мир есть, как
— 24 —
известно, безграничное зло, нескончаемое
страдание. Мудрость и святость — в том, чтобы понять, в чем страдание, и
победить его. Залог победы — именно в сознании, что сущность человека не в его
страдающем, несвободном теле, а в свободном бесстрастном духе. Высшее
совершенство, победа, — в уничтожении в себе всех источников страдания,
страстей, в полном торжестве духа над телом, в успокоении духа посредством уничтожения
власти тела еще до его физической смерти. Это — слияние с Божеством, нирвана.
Таков идеал буддиста. Любовь к людям для
него не столько самая цель и все содержание жизни (как для христианина),
сколько одно из средств для достижения цели — „освобождения
от страданий". Христианство есть, так сказать, деятельная любовь, буддизм
есть благочестивый эгоизм 1).
При таком миросозерцании, при стремлении
к нирване, направленное на внешний мир чувство любви и принцип равенства людей
должны были опять-таки стушеваться, до известной степени, перед субъективным стремлением
к личному спасению. В этом и состоит, по нашему мнению, та особенность
буддизма, которая не позволяет поставить его — ни как религиозное учение, ни
как исторический факт — совершенно в уровень с учением Иисуса Христа. Буддизм признает
и подчеркивает духовность человека и в торжестве духа над телом видит спасение
личности (субъективное благо). Но только учение Христа делает дальнейший
необходимый вывод и в установлении „царства Божия" на земле ищет также и общего
спасенья всего человечества — блага объективного. Независимо от этого,
буддизм, сделавший все-таки, подобно мозаизму, идею равенства людей до
известной степени достоянием массы народа,
———
1) С этой, высказанной нами еще в 1894 г. точки зрения
ср. превосходное сопоставление „Budda
und Christus"
в известном сочинении Houston Stewart Chamberlain:
Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts,
1, 195 — 200 (2 изд.).
— 25 —
отличается от христианства, в смысле
воздействия на международные отношения, еще и тем, что, явившись в Индии,
которая стояла вне постоянного, дятельного международного оборота с европейским
миром, религия Будды по необходимости, так сказать, локализировалась: безусловно высокая в своей морали, она сыграла, может-быть,
роль своего рода „христианства Востока" (как иногда называют буддизм) и, в
качестве такового, смягчила нравы и весь склад социально-политической и
международной жизни отдаленного Востока, но она не пошла на Запад, не коснулась
стран бассейна Средиземного моря, вокруг которого происходил
как известно, процесс внутреннего и внешнего — культурного и политического — взаимодействия
и объединения народов, приведший к нашей современной цивилизации вообще и к нашему
международно-правовому строю в частности.
В связи с этим-то процессом объединения всех
культурных народов того времени под эгидой Рима и возникает третья
интересующая нас здесь система. Греко-римская философия стремится объединить
человечество в понятии естественного единства и равенства всех людей. Древняя
мысль еще раз доходит до отрицания национальных различий, которыми была
насквозь проникнута международная практика, но опять не в пользу реального понятия
равноправности всех народов, как фактически существующих носителей известных прав,
а в пользу отвлеченной философской идеи единства всего мира. Мы имеем здесь в виду,
конечно, стоиков.
Уже в Греции, которой принадлежат основы
стоической философии, индивидуалистический ум эллинов старался отрешиться от взгляда
на человека как только на гражданина, раба, иностранца
и пр., уже там начинала зарождаться идея личности самой по себе, независимой от
всяких внешних атрибутов. Привитая, вместе со всей греческой цивилизацией, на римской
почве, эта широкая идея стала все яснее и яснее обрисовываться по мере рас-
— 26 —
ширения, вместе с завоеванием мира, кругозора
римлян и параллельно с признанием братства и равенства народов, вошедших в космополитическую семью Рима. Стоическая школа, это высшее и
лучшее проявление философского мышления древности, всецело признала принцип равенства
людей. Рабство, глубоко проникавшее весь древний мир, служило главным к тому
препятствием. И вот, стоические философы начинают учить, что не в том дело,
свободен ли человек или нет, что для счастья и блага личности, цели стоицизма,
важно лишь внутреннее „я" человека, и потому раб, хотя он и раб, может быть
внутренно, морально свободным. От этой внутренней свободы всего один шаг до
признания принципа свободы человека вообще, как личности, до провозглашения
равенства людей. И действительно, позднейшие стоики держатся именно таких взглядов:
„по природе мы все родные", говорит Сенека; Марк Аврелий, Эпиктет защищают
те же начала, и стоицизм кончает провозглашением таких принципов, как любовь, милосердие
друг к другу, единство подобно членам одного великого тела, которым является все
человечество. И если у циников и киренаиков (не говоря уже о
Сократе) эта идея „мирового гражданства" имеет еще субъективное,
индивидуалистическое значение, то именно у стоиков она развивается уже в понятие
общечеловеческого союза или государства, в котором гражданином, по выражение Цицерона,
„гражданином всего мира, как бы одного города", является, в силу своего
рождения, каждый человек.
Но если международной разрозненности
древнего мира и нанесен здесь, таким образом, чувствительный удар, то все-таки
еще не ради мирного общения между народами на практике и не ради отрицания войны,
а все для той же чисто отвлеченной, философской идеи единства мира. Учение
стоиков, так сказать, отражало собою в области отвлеченной мысли только то, что
в практической жизни осуществлял Рим, т.-е. всемирное государство. Философское
— 27 —
единство всех людей, как членов человеческого
рода, является как бы абстракцией фактического единства тех же людей, как подданных
— граждан или рабов — единого государства Рима. Таким образом
и стоицизм не сделал на практике необходимого вывода из великого принципа
равенства и братства людей.
Впрочем и на распространение своей абстрактной идеи
равенства и братства стоицизм не мог, по другим основаниям, оказать большого влияния.
Греко-римская философия вообще и стоицизм в особенности имели существенный и
вполне понятный недостаток, помешавший именно им стать проводниками этой
великой идеи в общее мировоззрение древности: воззрения стоиков остались
навсегда достоянием маленькой группы, горсти лиц; они не проникли в народную
массу. Мышление философов не могло не быть строго ограниченным так сказать,
аристократическим; оно не произвело переворота в моральном миросозерцании того
времени, хотя и содействовало ему, подготовляя почву для того, вышедшего из народа
же, великого учения, которому суждено было совершить этот переворот, — для христианства.
С этой точки зрения древняя философия, говоря словами Климента Александрийского,
только „приготовила язычников к Евангелию, подобно тому
как закон Моисеев приготовил к нему еврейский народ".
Как бы то ни было, воспитательное значение
стоицизма и римского империализма было громадно. Вместо старых понятий
международной разобщенности и войны, они внесли и жизнь народов Средиземного моря
новый принцип единства и мира, понятый и осуществленный, правда, старым анти-международным
способом, согласно с эгоистическим идеалом античных государств: как было уже
сказано, единство и мир были поняты и осуществлены в виде
объединения всех народов в одном, основанном на силе, государстве.
Эгоистический идеал языческого общества был достигнут. В Римской империи и в кон-
— 28 —
цепции стоиков жизнь и мысль античного мира
дошли до своего апогея. Рим выполнил то, что не удалось ни
Киру, ни Александру Македонскому: он создал грубую, но прочную и величественную
форму объединения человечества, — форму, которая надолго запала в памяти людей
и в течение столетий служила примером для других образований, поддерживалась
или восстановлялась, и притом даже тогда, когда политические условия превратили
ее (как в средние века) в одну пустую фикцию, когда старый античный
идеал потерял, казалось, всякое право на дальнейшее существование...
Так была крепка и жизнеспособна эта
римская конструкция единства и мира народов. Что же, спрашивается, нового (в смысле
идеи международного мира) противопоставило ей новое христианское общество?
———
III.
Если подвести итог сказанному, то мы
придем к следующему результату:
Идея равенства и
братства всех людей в системе мозаизма зародилась слишком рано и была поглощена
узко-национальным чувством исключительности; идея равенства буддизма явилась
вдали от центра международной жизни и была затемнена чрезмерным развитием умозрительной
субъективной стороны учения Будды; идея равенства стоиков не проникла за
пределы тесного кружка лиц, но, явясь современницей христианства,
способствовала приготовлению для него почвы.
Таким образом, ни левит, погруженный в книги
Закона, ни индийский кшатрия, познавший земную суетность и страдания, ни
высокообразованный римлянин, строящий отвлеченные философские теории о благе
личности и о всеобщем равенстве по природе, не могли ввести в сознание мира
идей любви, равенства всех людей, братства всех народов. Эти идеи дал массам народа
бедный галилейский Плотник, распятый за то, что нанес смертельный удар отжившему
и разлагавшемуся строю древнего мира.
А между тем универсальный идеал единства
и мира, которыми, взамен независимости, наделил Рим покоренные народы, был,
повидимому, тожествен с идеалом христианским. Дифирамбы римскому имперскому
миру не отличить, по внешности, от видений всеобщего мира пророков, духовных предшественников
христианства. „Люди перекуют мечи свои на плуги и копья свои на серпы, не
— 30 —
поднимет народ на народ
меча и не будут более учиться
воевать", говорит о будущем царстве Иеговы пророк Исаия. „Никто не будет больше
изготовлять оружия, волы будут оставлены при своих повозках и конь не узнает сражения.
Не будет ни войн, ни пленных, настанет всеобщее царство мира", как бы продолжает
историк императора Проба Вописк, говоря о всемирном распространении римского владычества.
И тем не менеe,
несмотря на внешнее тожество, для творцов этого римского мира ученики пророков и
последователи Христа не друзья и союзники, а „род людей, полный новых и зловредных
предрассудков" (Свентоний), ненавистная секта, одна принадлежность к которой
должна караться как уголовное преступление 1). Это оттого, что при
тожестве (в рассматриваемом отношении) цели тех и других, средства ее
осуществления глубоко противоположны. „Настанет всеобщее царство мира",
говорит только-что названный римский писатель и прибавляет:
„царство римских законов и наших властей". Но этого-то и не желают христиане;
они желают „царства Божия". Всеобщий мир Рима достигается в едином государстве,
раздвинутом до пределов земли силой оружия; всеобщий мир христиан — помимо всякого
государства и при полном отрицании грубой силы.
Уяснить себе правильность этого сделанного
нами противоположения невозможно иначе, как рассмотрев в ее общих исторических основаниях
и ее оригинальной особенности идею мира первоначального христианства. Где же, спрашивается прежде всего, самый источник христианского понятия
единства и мира народов?
Этого источника естественно искать в предшествовавшей
религиозной мысли еврейского народа, которой, как мы
———
1) См. по этому последнему пункту новую статью С. Callewaert: Le delit de
christianisme aux deux premiers siecles, в «Revue des questions historiques», 1903, 1 Juillet, и его же, Les premiers chretiens et l'accusation de lese-majeste
в том же журнале, 1904, 1 Juillet.
— 31 —
уже видели, не были чужды идеи объединения
и замирения всех людей и народов. Идеи эти коренились, конечно, в двух весьма
известных характеристических чертах еврейской мысли и национального характера.
Мы имеем в виду еврейский монотеизм и космополитизм: понятие
о Едином Боге, творце мира и всех людей, и отсутствие столь ярко
выражавшегося в античном мире чувства государственной исключительности, в смысле
территориального чувства родины, привязанности именно к данной стране — своей,
родной, стоящей выше всех других.
Здесь, конечно, не место входить в подробное
рассмотрение интереснейшего исторического вопроса о причинах и эпохе образования
этих двух интеллектуальных особенностей еврейского народа. Достаточно
констатировать тот факт, что во всяком случае уже со
времени вавилонского пленения Иегова окончательно превращается (в идее) из племенного
еврейского Бога в Единого Бога всего мира и всего человечества (Малах. II, 10). С другой стороны, то же вавилонское пленение и вызванное им расселение
Израиля по разным странам, усилившееся при следующих (персидском, македонском,
римском) завоеваниях, не могли не привести — у народа, никогда не отличавшегося
ни склонностью, ни способностью к установлению своего собственного твердого государственного
строя 1) и потерявшего теперь свою независимость, — к полной утрате чувства
территориальной привязанности. „Плач Иеремии" был лебединой песнью
территориально-государственных чувств еврея. С тех пор, — как часто бросали ему
этот упрек! — для него — ubi bene, ibi patria.
Таким образом, ко времени жизни Иисуса Христа,
———
1) Ср. вообще М. Muret: L'esprit juif. (P. 1901). — Ch. Renouvier: Philosophie
analytique de l'histoire. T. II, p. 221, о законодательстве Моисея: «Un fait unique et
bien remarquable de cette legislation, qui s'etend a toutes les spheres de 1a
vie, telle qu'elle est dans le Pentateuque, consiste en ce que nul pouvoir proprement
politique n'y est etabli". — Интересен в том же отношении известный рассказ о помазании первого царя (I кн. Царств, гл. VIII).
— 32 —
среди еврейского народа, из которого Он вышел,
во всяком случае имеется уже в идее — понятие Единого для
всех людей и всех народов Бога, и на практике — известные космополитические
склонности и стремления. Идея мира находится с ними в самой тесной,
непосредственной связи. Построенные на познании Единого Бога
картины мира пророка Исаии одинаково отрицают собою, конечно, и национальные
божества античного мира, и национальную исключительность его народов.
Эти-то, коренящиеся в монотеизме, древне-еврейские космополитические идеи и мечта о единении
всех людей в союзе мира целиком передались в христианство: здесь они, может-быть,
только более рельефно, выпукло выражены, более вразумительно для
объективиста-арийца.
„В церкви Христовой, — говорит
апостол Павел, — нет ни эллина, ни иудея, ни варвара и скифа" (Колос. III, 11). Все они — „едино стадо" (Иоан. X, 16; XVII, 21),
которому преподана заповедь любви (Иоан. XIII, 34; XV, 12, 17) и
мира (Иоан. XIV, 27; Римл. XII, 18), завет сохранять „единство духа в союзе
мира" (Ефес. IV, 3). Источник христианского космополитизма и идеи всеобщего
единства и мира таким образом достаточно ясен.
Но, вероятно, из того
же источника, только через более далекие — и, может-быть, менее чистые — протоки,
приблизительно те же идеи передались уже и раньше в арийский мир: как мы
видели, мысль о единстве человеческого рода успела уже проникнуть в него в форме
философской системы стоиков, семитический элемент которой отрицать едва ли
возможно 1). Следовательно, не в указанных идеях самих по
себе заключалась в рассматриваемом отношении коренная особенность христианского
миросозерцания сравнительно с древностью. К тому же ведь и христианский
космополитизм очень скоро выродился, как известно, в совершенно иную конструкцию,
далеко усту-
———
1) Ср. Sir Alex. Grant: Aristotles Ethics, I (3
ed.), 307.
— 33 —
павшую в величии
конструкции стоиков: вместо их единства всего человечества, христианство
выставило понятие единства лишь узко-религиозного, исключительно христианского,
и таким образом старая национальная исключительность древнего мира впоследствии
воскресла на практике только под новой, религиозной формой.
Особенность в рассматриваемом отношении
христианской идеи, привнесшая нечто совершенно новое в понятие единства человеческого
рода и международного мира, как они существовали до того времени, заключалась
не в самом идеале, не в цели: она заключалась в средствах, в способах его
достижения. Новое же понятие о способах достижения идеала коренилось
чрезвычайно глубоко, вытекая из общих этических представлений христианства, из основной
конструкции отношений человека к Божеству и ближним, — представлений, шедших в разрез
с мировоззрением не только арийского, но в значительной степени и семитического
мира. Космополитизм первых христиан (национальное безразличие и принцип единства)
и идея всеобщего мира были только одним из необходимых последствий, логических выводов,
нового общего нравственного учения христианства.
Независимо от известной конструкции
отношений человека к Богу, земного к небесному („religio" в собственном смысле слова), христианство есть прежде всего именно учение этическое: на основе любви к
Богу и ближним оно стремится, как известно, совершенно переделать, почти
пересоздать человека, сделать из него „нового" человека, и это путем общей
и полной замены прежних стимулов его деятельности — эгоизма и стремления к наслаждению
— любовью и воздержанием. Замена эта не есть, притом, результат какого-нибудь
принуждения, внешнего давления на человека (веления Божества или предписания религиозно-морального
законодателя), а свободный акт человека, проникнувшегося новым мировоззрением,
т.-е. освобожденного от прежних, приводящих к эгоизму, пут старых ма-
— 34 —
териалистических взглядов. В этом — основная,
принципиальная разница между моралью христианскою и этикой не только религиозно-философских
систем арийского мира, но и еврейского закона, несмотря на
иудейский корень самого христианства. Моисей
представляет собою именно „закон", — закон, подробно формулирующий условия
договора, заключенного между Иеговой и избранным его народом (от повеления
чтить родителей до описания обязательных для еврея кисточек или каймы на одежде),
Христос — есть просто учитель „истины". Все Евангелие свидетельствует об этом
противоположении. „Закон дан через Моисея, благодать же и
истина — чрез Иисуса Христа" (Иоан. I, 17).
Одним словом, нравственные нормы еврейского закона (и всех других еще менее
совершенных религиозных систем древности) — нормы принуждения; нравственные нормы
христианского учения — нормы свободы 1) Их исполнение требует свободной
деятельности человека и с своей стороны его
освобождает: „истина сделает вас свободными" (Иоан. VIII, 32).
Отсюда — неизмеримые по важности выводы
для всей жизни христианина, для отношений его ко всему окружающему миру,
начиная с семьи и кончая государством. „Освобождение" человека состоит в отрицании
за всеми объективными благами этого мира всякого абсолютного значения для
человека. На первый план выносится внутреннее содержание его
личности; все же ее внешние интересы — пища и питье, одежда, жилище, имущество,
семья, отношение к обществу, к союзу религиозному, национальность, государство
— стушевываются, стираются, исчезают перед исканием „царства Божия и правды
его" (Матф. VI, 33).
Таким образом весь блестящий объективный мир древности
должен пасть пе-
———
1) Замечательно точно и ясно формулирует эту принципиальную
разницу упомянутый уже нами выше J. Jacobs в Jevish Ideals, p. 6, s., где
еврейскую этику он определяет как «morality as Law», а христианскую как «morality as Freedom».
— 35 —
ред субъективным стремлением „освобожденного" человека
к божественной истине.
Легко видеть, что подобное учение для
античного мира невыносимо. В колоссальном организме античного государства, не
знающего границ своей воле и власти, появляются безумцы, дерзающие — при всем своем
пассивном повиновении физической силе государственной власти — игнорировать величие,
авторитет, значение для себя этой государственной организации 1). „Salus publica
suprema lex esto", говорит древний мир:
государственная польза — наивысший закон. „Для нас ничто так не безразлично,
как государство", говорит христианство устами Тертуллиана. Обожествленному
государству императорской эпохи Рима христиане противопоставляют своего Бога.
„Нет над нами ничего, кроме Бога", говорит еще в IV веке один христианский епископ.
Это перевертывало, конечно, вниз головой
весь государственно-общественный быт, все понятия, которыми веками жил и
держался древний мир. Вот почему, несмотря на то, что с чисто
исторической точки зрения христианство было ничем иным как завершением всего
предшествовавшего религиозного развития того же древнего Востока, несмотря на
то, что христианское учение было конечным результатом, синтезом римской,
греческой и иудейской истории, — оно, тем не менее, стояло в полном противоречии
с античным миром 2). Вот почему христианство было для этого мира
„зловредным предрассудком", и гонения на него со стороны языческого государства
неизбежны. „Противоположность между римлянами и христианами была полная"
(Эйкен).
———
1) Эту сторону христианства правильно подчеркивает Э.
Найс (Nys) в своей статье о «понятии государства». См. «Revue de droit
international» etc. 1901, № 4 (L'Etat et de la notion de l'Etat), p. 435: «... mouvement
hostile par essence a la notion d'autorite, telle que l'entendait le monde
ancien».
2) Это руководящие мысли капитального для истории
средневекового мировоззрения труда Н. V. Eicken. Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung (Stuttgart, 1887), см.
стр. 1, 2.
— 36 —
Действительно, весь строй древнего мира
(как в значительной степени и современный нам строй) обусловливался именно
понятием государства, самодержавной и самодовлеющей национальной единицы,
общественного союза, представляющего из себя особый — законченный
и враждебный другим — культурный мир. A христианство,
скажем мы словами известного германского юриста Гирке, „перенося идеал человечества
из земного государства в царство Божие, разрушало самые основы античного учения
об обществе". „В церкви Христовой нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания и необрезания,
ни варвара и скифа, ни раба и свободного" (Колос. III, 11; Галат. III, 28). Противоположность двух мировоззрений давала себя
таким образом чувствовать во всех отраслях государственной и общественной
жизни.
В самом деле, экономическая жизнь
древности была насквозь пропитана институтом рабства, — в христианстве все
братья и „нет рабов и свободных". Взаимные отношения граждан античного государства
между собою регулируются законом, — христиане относятся ко всякому земному „праву"
отрицательно и ставят на его место 10 заповедей, как они были истолкованы
Христом. В отношениях граждан к государству полноправный гражданин, так сказать,
растворяется в понятии государства, отдельный индивидуум представляет ценность
только как составная часть известной государственной машины, — для христианства
каждый человек — дорогая единица, взвешиваемая особо, сообразно своим нравственным
качествам. В отношениях между государствами античный мир весь основан на национальной
исключительности, на идее превосходства своего государства, — для христианства
разделение людей на народы и племена не имеет никакого значения,
противоположности „своих" и „чужих" народов не существует.
Одним словом, в христианстве нет сильных и
слабых, богатых и бедных, знатных и незнатных, хозя-
— 37 —
ев и рабов, начальников и подвластных, победителей и побежденных,
своих подданных и иностранцев. В нем есть только то, что упорно, по христианской
легенде, отвечают, несмотря на пытки, лионские мученики, Санкт с товарищами, на
все вопросы римского судьи: „мы христиане!" Чтобы более рельефно выразить
нашу мысль, мы готовы сказать, что античный мир как и
современная нам цивилизация 1), был основан на реальных, осязаемых материальных
благах, тогда как колоссальное значение христианства заключается именно в том,
что оно не только провозгласило, но до известной степени и провело в жизнь учение,
основанное как бы на полном отрицании этой действительности, учение поэтому
„безумное" в глазах древнего мира, но зато
настолько великое, что сама эта действительность рядом с ним казалась ничего не
стоющей...
Итак, христианство всю жизнь человеческую
конструировало на совершенно иных основаниях сравнительно с античным миром;
мало того, оно бросало вызов всему общественному и государственному (в частности
международному) строю древнего мира. He трудно, действительно, видеть, что очерченные выше
воззрения означали с точки зрения международно-правовой, в смысле развития идей
международного общения и мира.
Во-первых, для осуществления единства народов, — к которому, по-своему,
стремился и древний мир, — христианству не нужно единого поработившего их всех государства.
Если для античного мира высшей формой общественного союза остается на практике
государство — всесильное, поглощающее внутри себя отдельных индивидуумов и
индивидуальные интересы и не признающее извне никаких рамок своему произволу, —
то, напротив, христианский мир, противополагая этому все-
———
1) Античные воззрения, как известно, снова окончательно
берут верх только в эпоху, которая отрицала основанную на христианстве
средневековую цивилизацию (и в значительной степени самое христианство), т.-е.
в эпоху, метко называемую временем „возрождения".
— 38 —
сильному государству выше его стоящее „Царство
Божие", дает возможность, через разрушение национальной исключительности,
мыслить мирное существование друг возле друга нескольких равноправных государств
и, следовательно, конструировать известное международно-правовое общение как высшую,
незнакомую древности, форму общения людей. И действительно, только основанное
на христианстве средневековье, как правильно замечает Гирке, „дошло до понятия
общения народов и до международного права".
С другой стороны, для осуществления международного
мира христианству не нужно предварительных бесконечных завоевательных войн.
Международный мир достигается тем, что война, как и всякое насилие, запрещена
последователям Христа. Этот пункт, в отличие от тех или других общих представлений
христиан о единении народов (о чем мы только-что
говорили), имел громадное практическое значение.
Общий практический, жизненный характер христианства
необходимо должен был, в отличие от теоретических мечтаний стоиков, отразиться
так или иначе на тех жизненных отношениях, в которых идеи всеобщего мира и
братства всех людей сталкивались на деле с совершенно противоположными
взглядами, стремлениями, требованиями окружавшего христиан общества. Стоицизм —
теория, философская система, христианство — практика, сама жизнь. Еврей, прежде
всего, практик, и вышедшее из еврейства христианство — именно религия дела,
практики. „Вера без дел — мертва" (Иак. II, 17, 20, 26). Вот почему, несмотря на некоторое сходство обоих представлений о
братстве всех людей, между христианством и стоицизмом на практике громадная
разница. Здесь одна отвлеченная конструкция недостаточна. Последователи Христа
могли, как и стоики, игнорируя национальную исключительность, которою был пропитан
насквозь античный мир, относиться ко всем людям, без различия их происхождения,
как к своим
— 39 —
ближним и братьям. Но
здесь спрашивалось, кроме того, какое положение займут христиане в тех случаях,
когда государство, к которому, по выражению Тертуллиана, они относились
„безразлично", находило нужным нарушать их идеалы всеобщего братства и
мира и предписывало им, как своим гражданам, итти с оружием в руках к осуществлению
его идеалов, не останавливаясь перед убийством этих „ближних" и
„братьев"?
Особый характер христианства, как религиозно-этической
системы самоусовершенствования человека через деятельную любовь к ближним, должен был дать и особый ответ на этот вопрос — ответ,
неслыханный еще в религиозных системах античного мира: христианство совершенно
отрицает войну. Такова, по нашему мнению, отличительная черта, внесенная
(первоначальным) христианством в понятие международного мира.
На этом капитальном вопросе об отношении
первоначального христианства к войне мы теперь специально и остановимся.
Сам по себе вопрос этот, конечно,
совершенно ясен, и у непредубежденного человека едва ли может явиться сомнение
относительно того, как к войне относился Христос, хотя бы в Евангелии и не
находилось нигде прямого ее осуждения. Всякие сомнения,
казалось бы, должны рассеяться перед простою и ясною, как Божий день, общею и категорическою
заповедью „не убий" — в том широком, неслыханно-безбрежном толковании,
которое дал ей Христос (Матф. V, 21, 22
и след.). И тем не менее, идя в уровень с жизнью, которая
вообще так далеко унесла „христиан" и „христианское" общество от учения
Христа, вокруг этого ясного вопроса, с течением времени, постепенно образовалась
целая сложная аргументация, стремившаяся (и стремящаяся) доказать, — то
лицемерно и с полным сознанием допускаемой лжи, то бессознательно и „bona fide", — что „не убий"
может иногда значить — „убивай"... Вопрос „an militare
sit peccatum",
— „грешно ли вое-
— 40 —
вать?" — мучил совесть и мысль христианского
общества в течение всего средневековья, пока повседневная, противоположная учению
Христа, практика международной жизни не сдала его окончательно в архив, как вопрос
чистейшей теории. Однако, в первые века христианства
он был вопросом насущной практики и разрешался столь же категорически, как и
просто.
Изучение христианской
мысли того времени дает нам, действительно, возможность утверждать, что
христианская община первых веков нашей эры — почти до самого V в. по Р. Хр. — еще совершенно ясно и прямо
признавала, устами самых видных и авторитетных своих руководителей, великих отцов
и учителей Церкви, что христианам запрещено всякое убийство себе подобных, даже
на войне, участие в которой не совместно с обязанностями последователя Христа.
Так, ещё во II веке перешедший в христианство философ Татиан открыто
приравнивает войну к простому убийству, и почетный воинский венок считает наградою,
несовместимый с достоинством христианина 1).
В том же столетии Афиногор Афинский
говорит 2), что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают
присутствовать при убийствах (ясный намек на сражения).
Св. Климент Александрийский († 217),
опираясь, очевидно, непосредственно на ап. Павла, настаивает на том, „что во
Христе не может быть уже никакого разделения", что в христианской общине
нет уже „ни варвара, ни иудея, ни грека", и прямо противопоставляет языческим
„воинственным народам" — „мирное племя христиан".
Ученик его, знаменитый Ориген († 253),
как нельзя более ясно описывает, в чем именно заключается осо-
———
1) Or. ad Graec. 11,
19. См. указанный в предисловии труд Bigelmair'a, стр. 166.
2) Bigelmair, там
же.
— 41 —
бенность этого нового „мирного племени"
в рассматриваемом отношении. В известном своем сочинении „Против
Цельза" (кн. V), прилагая к христианам слова Исайи,
он между прочим говорит: „Мы не поднимаем оружия ни
против какого народа, мы не учимся искусству воевать,
— ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира". Но отсюда, конечно,
прямая коллизия с языческим обществом и государством, и Ориген, возвращаясь с этой
специальной точки зрения к вопросу об отношении христиан к войне, еще раз категорически
выясняет свою мысль в восьмой книге названного сочинения. Отвечая
на обвинение Цельзом христиан в уклонении от военной службы, — благодаря чему,
по мнению Цельза, стоит Римской империи сделаться христианской, и она погибнет,
— а также всем „тем, которые, будучи чужды нашей веры, требуют от нас, чтобы мы
ради государственной пользы брались за оружие и убивали людей", Ориген говорит,
что христиане даже больше других сражаются за императора: они сражаются за него
своим милосердием и молитвами, хотя совершенно справедливо, что никогда они не
стали бы сражаться вместе с ним, с его войсками, даже в случае прямого к тому
принуждения. Мысль, кажется, достаточно ясная и определенная. И не нужно забывать, что, как говорит один современный нам католический
писатель 1), именно Ориген является для первых веков христианства
„свидетелем величайшей важности", не только по своей громадной эрудиции во
всем, что касается библейской литературы, но и по удивительному знанию
современной ему практической жизни, приобретенному как через многочисленных,
сходившихся к нему отовсюду учеников, так и благодаря собственным путешествиям,
в которых он посетил Рим, Афины, Антиохию, города Палестины, Александрию
и пр.
———
1) M-gr Batiffol в статье L'Eglise naissante. Le canon du Nouveau Testament, p. 15. („Revue
Biblique Internationale, 1903, 1 Janvier.)
— 42 —
Не менее категоричен и современник Оригена
Тертуллиан († 240). „Не подобает служить знаку Христа и знаку диавола, — говорит
он про военную службу: — крепости света и крепости тьмы; не может одна душа служить
двум господам... да и как воевать без меча, который отнял сам Господь?"
„Неужели можно упражняться мечом, — восклицает он в другом месте, — когда
Господь сказал, что каждый, взявшийся за меч, от меча погибнет? И как будет участвовать
в сражении — сын мира?"
Св. Киприан († 258) еще более резок: „Безумствует
мир во взаимном кровопролитии, и убийство, считаемое преступлением, когда люди
совершают его по одиночке, именуется добродетелью, если делается в массе.
Преступникам приобретает безнаказанность — умножение ярости".
Лактанций († 325) пишет: „Не должно быть никакого
исключения из заповеди Божьей, что убить человека всегда грех". Развивая
свою мысль, он говорит дальше, что, в противоположность человеческому закону,
запрещающему обыкновенное убийство, закон Божий запрещает и те действия, которые
людьми часто считаются дозволенными: так, „носить оружие христианам
не дозволено, ибо их орудие — только истина".
Совершенно ясно, таким образом, в какую
сторону клонились чувства и взгляды главнейших руководителей
христианской мысли первых трех веков нашей эры: война считалась недозволенной
для последователей Христа.
Логическим последствием таких воззрений
на войну должно было явиться и отрицательное отношение к военной службе вообще.
И действительно, вот какие основные положения по этому вопросу можно, как кажется,
вывести из всей совокупности сведений об этических представлениях христианского
общества первых веков:
1) Христианам — как „верным", так и
„оглашенным" — безусловно запрещено поступать на военную службу, под страхом
отлучения от Церкви.
Это категорически выражено в правилах египетской
— 43 —
церкви (Const. Eccl. Egypt
II, 41) и в так называемом „Завещании Господа нашего Иисуса
Христа" (Test. dom. nostri
Jesu Christi, II, 2), притом даже еще в позднейшей, копто-арабской
(конца V века) редакции этого памятника 1).
2) Бывшим язычникам, находившимся уже на
военной службе во время принятия христианства разрешалось оставаться в войсках,
— что оправдывалось ссылкой на слова Иоанна Крестителя
воинам (Луки, III, 14). Впрочем, и эта уступка явилась
только впоследствии и неизвестна еще, напр., первоначальной (сирийской)
редакции „Завещания Иисуса Христа", которая
требует от новообращенного солдата безусловного отказа от военной службы с момента
крещения 2). Нечего и говорить, что и при разрешении продолжать
службу бывшим язычникам выход их из войск всячески поощрялся в христианской
среде, и „Acta Sanctorum" (Деяния Святых) содержат не мало примеров христианских
мучеников, пострадавших именно за отказ продолжать службу в римских легионах 3).
3) Бывшие язычники, находившиеся в войсках
при обращении в христианство, но пожелавшие оставить военную службу после крещения,
ни в каком случае не должны были снова поступать в ряды войск. По этому вопросу
категорически высказался ещё первый Никейский вселенский собор (325), который в
12-м своем каноне определяет строгую эпитимию за
возвращение в войска христиан, уже оставивших оружие. Выражения канона, — тем более
замечательного, что он относится по времени уже к эпохе торжества христианства над
язычеством, — достаточно рельефны и не оставляют никакого сомнения в действи-
———
1) См. Bigelmair, стр.
171 — 173.
2) Там же.
3) Канон Арльского поместного собора 314 г., отлучающий
от св. причащения тех, „qui arma projiciunt in pace", который часто толковали, как отлучение за
отказ служить в армии, — на самом деле не имеет прямого отношения к
рассматриваемому вопросу и, как доказал Бигельмайр (стр. 182), касался отлучения
от церкви гладиаторов.
— 44 —
тельном характере
настроений христианского общества еще в начале IV века. Канон этот, в нашем славянском официальном переводе,
гласит:
„Благодатию призванные к исповеданию веры
и первый порыв ревности явившие и отложившие воинские
поясы, но потом, аки псы, на свою блевотину возвратившиеся... таковые десять лет
да припадают к Церкви, прося прощения, по трилетном времени слушания Писания в притворе"
1).
4) Оставшиеся на службе воины-христиане во всяком случае не могли быть офицерами
(центурионами и пр.). Это запрещение было вызвано необходимостью
для лиц офицерского звания приносить жертвы богам и вообще играть известную
роль в языческом (специально в императорском) культе 2).
5) Оставшимся в войсках христианам вменялось
в обязанность воздерживаться на войне от убиения врагов. В этом отношении любопытно
отметить, что еще в средине IV века св.
Василий Великий (379) рекомендует не допускать до св. причащения, в течение
трех лет, воинов, виновных в таком убиении 3).
При таких общепризнанных в то время воззрениях
христианского общества, воины-христиане едва ли могли быть на практике особенно
многочисленны в римских легионах. Во всяком случае, как это признает и Гарнак,
нечего и думать выставлять христианство как какую-то „лагерную религию",
особенно распространенную среди солдат подобно, например, культу Митры 4).
Интересен в этом отношении вывод, сделанный еще в средине прошлого
столетия французским ученым Le Blaut
(Inscrip-
———
1) См. „Книгу Правил св. апостол, св. соборов
вселенских и поместных и св. отец". М., 1893, стр. 36.
2) А. Harnack: Die Mission und Ausbreitung des
Christentums, стр. 222, также Bigelmair, стр. 166 и 179.
3) Правило 13 первого канонич. послания к Амфилохию,
еп. Иконийскому. См. „Книгу правил", стр. 317, ср. там же правило 8, стр. 313.
4) Harnack, стр.
268 и 388.
— 45 —
tions chritiennes des Gaules), который, на основании
сравнительного подсчета языческих и христианских надгробных надписей (в Галлии)
с указаниями на военное ремесло умершего, пришел к заключению о сравнительно
незначительном количестве воинов-христиан в армиях Рима 1). И если
Тертуллиан, в известном тексте, говорит о множестве христиан, служащих в римских
войсках, то, конечно, только для того, чтобы указать на быстрое распространение
христианства в Римской империи. „Мы существуем только со вчерашнего дня, — говорит
он, — и вот уже наполняем ваши лагери..." Для правильного разрешения
вопроса весьма существенным является здесь, напротив, свидетельство врагов христианства.
Упреки Цельза (см. выше) не оставляют никакого сомнения в действительном положении
вещей. И Ориген отвечает ему, как мы видели, весьма знаменательным образом, отвечает,
конечно, не от имени только своих личных симпатий, а на основании окружавших его,
как и Цельза, фактов и общего мировоззрения христиан его времени.
Эти взгляды Оригена, Тертуллиана или
Лактанция далеко не были, таким образом, только одной отвлеченной теорией,
крайними требованиями нескольких особенно горячих, радикальных голов, как это
склонны представлять в наше время некоторые писатели, апологеты войны. Напротив
того, практика первых трех веков находится, в общем, в полном соответствии с указанными
взглядами. И, конечно, легко себе представить, как многочисленны, при таких воззрениях
на войну и военную службу, должны были быть столкновения христиан первых веков с
римской государственной властью. Мы видим, действительно, что на практике христианская
масса не отстает от своих руководителей. Не мало христиан, почитаемых
———
1) Le Blaut нашел, что из всей массы исследованных им христианских
надписей только приблизительно 1/200 принадлежит христианам-воинам,
тогда как из надписей языческих на долю солдат приходится 1/20.
— 46 —
Церковью святыми, претерпели, по
христианской легенде, мучение и смерть именно за отказ служить под знаменами
Рима. Святые Максимилиан, Маркелл, Мартин противополагают такой службе — служение
Христу и на разные лады повторяют тот же основной принцип: „я воин Христа,
сражаться мне не подобает" (житие св. Мартина). Их взгляды и их судьбу разделяют
блаженные Павлин, Виктриций, Ферруций... Все они предпочли
скорее умереть, чем отказаться от убеждения, что „не дозволено проливать кровь,
даже в справедливой войне и по приказу христианских государей" (Acta Sanctorum, в житии бл.
Ферруция).
Таким образом и
после знаменательной эпохи IV века — эпохи
торжества Церкви над языческим государством — еще остается почва для сомнений в
дозволенности для христиан участия даже в „справедливой войне" и даже „по
приказанию христианских государей". И действительно, отголоски старых,
блещущих своей примитивной чистотой, крайних взглядов первоначального христианства
еще долго дают себя чувствовать в христианском обществе. В разгаре критического
для этих взглядов IV века пылкий Люцифер, епископ Кальярский,
прозванный новым „Илиею", утверждает, что даже самое дорогое для христиан благо,
свою религию, они должны защищать „не убиением других, а собственною
смертью" — „non occidendo, sed Moriendo pro deo". А св. Павлин, епископ Ноланский
(† 431), еще на рубеже IV и V века считает возможным грозить геенной огненной за
службу кесарю с оружием в руках...
Для нашей цели взгляды первоначального христианства
на войну, органически связанные с рассмотренным нами общим христианским мировоззрением,
выясняются из предшествующего совершенно достаточным образом: в противоположность
последующему развитию христианства, первые поколения христиан совершенно отрицают
войну.
———
IV.
Нам остается сделать лишь краткое
заключение, — сказать несколько слов о последующей судьбе этой великой
христианской идеи, — идеи замирения мира путем отрицания войны.
Мы назвали IV век критическим для рассматриваемых взглядов. И
действительно, он несомненно отмечен решительным поворотом
в воззрениях христианского общества на войну. В эту эпоху, при общем столкновении
двух противоположных миросозерцаний, должны были окончательно столкнуться и обе
противоположные идеи мира, римская и христианская, — идеал мира, как результат
всемирного завоевания, и мир, как результат отрицания войны.
В столкновении рыбаков и мытарей
отдаленной окраины римского государства с божественными повелителями „земного
круга" победа осталась, как известно, не на стороне последних. Но, как не
менее известно, христианство одержало верх над языческим государством лишь при
помощи целого ряда более или менее существенных уступок языческому
общественно-государственному строю — оно победило в конце
концов только путем компромисса с античным миром, превратившего в значительной
степени само христианство из внутренней, неформальной религии, какою оно
представляется нам в Евангелии, в принудительно охраняемый государственной властью
культ, каким мы его видим, напр., в Codex Theodosianus. Превращение это, совершившееся
в течение
— 48 —
IV века, отразилось на всех проявлениях религиозно-нравственной
жизни христианского общества, повело вообще, по меткому выражению берлинского профессора
Брейзига 1), к установлению, вместо абсолютной морали Христа,
известной „морали компромисса" 2) и в частности не могло не
оказать самого сильного влияния и на представления о всеобщем мире и единении,
как они складывались в первые века нашей эры.
Действительно, обе эти идеи потерпели коренные изменения. Идея единения всех людей без различия
национальностей уступила в это время место понятию единения узко-религиозного,
так что старая национальная исключительность античного мира
в сущности сохранилась, превратившись только в исключительность религиозную.
Правда, на почве этого
узко-религиозного единения, при несомненном воздействии римских универсально-империалистических
идеалов, в средние века вырастает новая конструкция международного мира (не
потерявшая своего значения и до настоящего времени), а именно идея объединения
и замирения народов через подчинение их моральному руководительству единой,
независимой от государства и государственно-организованной Церкви, как особого универсального
духовного царства 3).
Но идея эта, при всем ее величии, представляла собою, с интересующей нас здесь
точки зрения первоначального христианства, уже значительное отклонение от старых
взглядов: в средневековом строе есть снова и эллин и иудей, и обрезание и необрезание,
и варвар и скиф, — и международная практика снова роет глубокую пропасть между язычниками,
магоме-
———
1) К. Breysig: Kulturgeschichte der Neuzeit, т. II, ч. 2. (Берлин, 1901) особ. стр. 622 сл.
2) Сделки с совестью.
3) Об этой новой конструкции международного мира,
основы которой формулированы в знаменитом сочинении бл. Августина «De civitate Dei» (О Божьем
царстве) см. подробно в первоначальном издании настоящей работы, стр. 38 сл.
— 49 —
танами или евреями, с одной стороны, и
христианами — с другой.
Точно так же и первоначальная идея
безусловной недозволенности войны для христиан не выжила периода обращения
языческой империи Рима в „христианскую". Ригоризм
первых веков христианства в воззрениях на войну уступил место взглядам более приноровленным к практической жизни того
времени, и торжество христианской Церкви над языческим государством вполне последовательно
привело в то время внутри государства — к торжеству принципа принуждения в вере
1), а во внешних его отношениях — к резкому отграничению народов христианских
от нехристианских и к разрешению христианам войны в качестве явления не
желательного, но терпимого (необходимого зла). Таким образом, война,
считавшаяся в I—III вв. нашей эры безусловно недозволенною и противною основным началам христианства,
провозглашается теперь, в новой „христианской" империи Рима, чем-то
совершенно независимым от этих начал, явлением вполне мыслимым и для христиан,
— фактом хотя и прискорбным, но тем не менее неизбежным и очень часто даже
законным!..
Пылкие церковные писатели IV века, Лактанций или Люцифер, нигде не допускавшие
принуждения, — эти „Цицерон" и „Илья" Церкви — уже последние
представители старого крайнего воззрения. Окруженная врагами внутренними и внешними,
только-что победившая империю Рима и сама ставшая на ее
место, христианская Церковь заменяет категорическое „не убий" условным дозволением
убийства в „справедливой", неизбежной войне.
Эта идея справедливости, законности
известных войн и прославления христианского воина, — скажем мы словами историка
рыцарства Готье 2), — идея, которая привела бы
———
1) Ср. В. Герье: «Торжество принципа принуждения в вере»
(Борьба за единство веры в IV веке), в апрельской
кн. «Вестника Европы» 1901 г.
2) L. Gautier: La chevalerie. (P. 1895), стр.
9.
— 50 —
в негодование Тертуллиана или Оригена, — делает
тем большие успехи, что западный мир находится в то время в самом разгаре
вражеских нашествий, на апогее варварства и смертельной борьбы религий и рас.
К V веку эволюцию христианской мысли и жизни в сторону
разрешения войны и военной службы христианам нужно считать
во всяком случае практически уже законченной. Появление креста на римских знаменах
означало не только победу христианства над языческим государством Рима, но и
согласие христиан на соединение прежде несоединимых понятий. И через сто лет после
знаменитого Миланского эдикта (313), знаменующего собою эту победу, другой
эдикт, Феодосия II (416), предписывает уже не
допускать в армию не-христиан 1). В армии
теперь нет больше... язычников!
В то же время совершается резкий поворот и
в области христианской мысли. Вслед за св. Афанасием Александрийским на Востоке
(† 373) новый принцип законности известных войн и дозволенности убиения на
войне встречает себе и на Западе выразителя в лице бл. Августина († 430) религиозно-философские
воззрения которого легли, как известно, в основу всего
средневекового миросозерцания. Его тезис „pacem debet
habere voluntas bellum — necessitas" — наша воля должна стремиться к миру, война же
обусловливается необходимостью, — ставший юридическим афоризмом христианского средневековья,
и есть та „мораль компромисса", на которой окончательно успокоилось
последующее христианское общество.
Правда, старые взгляды еще долго давали
себя чувствовать. Сама Церковь еще долго не может и не хочет отрешиться от всех
последствий этих старых воззрений. На Востоке духовенство с успехом протестует против
желания императора Фоки причислить убитых на войне воинов к лику мучеников, ссылаясь
на 13 правило Ва-
———
1) Cod. Theol. XVI, 10, 21.
— 51 —
силия Великого (см. выше). На Западе покаянные сборники Беды Достопочтенного (VIII) век) и аббата Регинона,
в X веке,
налагают на воинов, виновных в убиении врага, сорокадневное покаяние.
Еще в средине XI ст. Церковь назначает участникам
похода Вильгельма Завоевателя в Англию годовую эпитимию за каждого убитого врага
и сорокадневную за каждого раненого. Папы проклинают войну („ecclesia abhoret sanguinem" — Церковь содрогается
перед кровью), называют ее „измышлением дьявола" (папа Николай I в 865 г.), красноречиво
говорят о своем намерении изгнать ее из общества христианских народов (папа
Каликст II на Реймском соборе
1119 г.), но о старой идее общего запрещения войны для христиан не может быть
более и речи.
Идея эта, однако, не погибла
окончательно. Полное отрицание войны продолжало и, как известно, еще продолжает
существовать, но на почве других, большею частью уже еретических, с точки зрения
Церкви, мировоззрений. Так, все течение манихеизма, — этой, по выражению
Дёллингера 1), „фантастической системы, которая превращала христианское
учение в какую-то дуалистическую религиозную философию, а самого Христа в какую-то
космическую силу" — глубоко враждебно всякому лишению жизни и безусловно отрицает войну. От монтанистов и катаров („чистых")
II—III в. „ереси"
этого рода идут красной чертой через все средневековье, примыкая в XIV веке к учению Виклефа и „лолардистам" — безусловным
противникам всякой войны, которую они приравнивали к убийству и грабежу и
объявляли прямо противоречащею Евангелию.
Итак, отдельные голоса не переставали
напоминать христианскому обществу о старом чистом учении его первых поколений.
Что же, спрашивается, отвечали им представители Церкви в защиту общепризнанной
теперь дозволенности войны для христиан? Положение было не из лег-
———
1) I. v. Döllinger:
Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters, I, стр. 2.
— 52 —
ких в виду полной ясности учения разобранных
нами выше отцов Церкви первых веков, и выход из этого положения, при всех хитросплетениях
средневековой казуистики и при всей развязной простоте современных нам литературных
приемов, не удался пока ни одному богослову или публицисту, кто бы ни касался
этого старого вопроса.
В католическом мире с ним роковым образом
столкнулся, еще в XII веке, составитель Декрета Грациана,
знаменитого средневекового сборника канонического права, задающий уже себе
столь часто повторявшийся потом в средние века вопрос: „an militare sit peccatum" — грешно ли воевать? И что его ответ: „нет, не
грешно", вымученный длинной, темной, запутанной схоластической аргументацией
1), никого не удовлетворил, — это ясно из все вновь и вновь
повторяющихся тщетных попыток, у всех средневековых канонистов, решить наконец этот мучительный вопрос. В XVII — XVIII ст. с ним снова
сталкиваются, на другой почве, так называемые болландисты, иезуиты-издатели известных
„Acta Sanctorum"
(Деяний Святых). Как доказать, что война дозволена христианам, когда столько
мучеников, житие которых они сами описывают, пострадали именно за отказ от военной
службы? И болландисты хватаются за неправильно понятое постановление местного собора
в Арле 314 г. (см. выше), объявляя, что до этого года отказ от военной службы
был подвиг и приводил в „святые", a после — тяжкий
грех, караемый отлучением от Церкви!
Не менее странно и то, что мы находим в православной
литературе. И странно это тем более, что здесь перед нею
во весь рост стоит гигант русской мысли, „великий писатель земли русской".
Воззрения Л. Н. Толстого на войну достаточно всем известны, и повторять их здесь нет
———
1) Ход этой аргументации подробно приведен во втором томе
нашей „Истории зарождения международного права", стр. 8 сл.
— 53 —
надобности. И вот, в ответ на слова,
которые, как тараном бьют застарелые предрассудки, — или полное молчание, или
робкий лепет наивных возражений. Но кого удовлетворят официальные ссылки на
старых византийских толкователей, на неизбежных Зонару, Аристина и Вальсамона,
с их постоянным противоположением двух великих отцов Церкви IV века — святых Василия и Афанасия? Один говорит, что
убивающих на брани три года нельзя допускать до св. причащения, ибо „руки их не
чисты"; другой — что „доблестным в брани"
воздвигают памятники и что „убивать врагов на брани и законно, и похвалы
достойно" 1). Где же выход? Выхода, конечно, нет для
ортодоксальной точки зрения, и профессор-специалист подтверждает нам это: „оба
противоречивых правила (св. Василия В. и св. Афанасия В.) перемешаны так, что и
понять трудно", говорит про нашу „Кормчую"
проф. Заозерский 2) и советует поступать „по обоим". Это читаем
мы в статье, специально посвященной нашему вопросу и направленной против Л. Н.
Толстого... Кого удовлетворят такие советы? Или кого убедит еще такая новейшая
аргументация: „война несомненно позволена христианам,
ибо Иоанн Креститель на вопрос воинов, что
———
1) Книга Правил, стр. 298, послание св. Афанасия В. к
Аммуну монаху ср. Правила св. Отец с толкованиями. М. 1884,
стр. 210, 212). Интересно, что изданная «по благословению Св. Прав. Синода" Книга Правил в указателе, под словом
«Война», содержит ссылку только на это мнение Афанасия! Ни на правила 8-е и 13-е
Василия В., ни на 12-й канон Никейского вселенского собора указания не
имеется...
2) Проф. Заозерский: «Отношение св. православной Церкви
к миру и войне по учению ее канонического права" (Годичный акт в Моск. дух. акад. 1 окт. 1896 г.), стр. 34. В
настоящих взглядах и симпатиях самого проф. Заозерского едва ли, впрочем, можно
сомневаться. Так, вывод Л. Н. Толстым заповеди «не воюй» из Матф. V, 21, 22 есть «вывод логически возможный и, можно даже
сказать более, — правильный и верный» (стр. 29), его же (Льва Толстого) «учение
о войне, как система, более сходно с воззрениями Церкви, чем учение его
оппонентов" (стр. 30), 13-е правило Василия Вел., «к
счастью нашему», имело каноническую силу (стр. 33) и пр.
— 54 —
им делать (Луки III, 14), „не воспретил остаться в их звании" и даже Сам Господь „не повелел капернаумскому сотнику оставить
свою службу"... 1).
Протестантско-германский мир гораздо
решительнее и проще в своих доказательствах. Победители 1870 г. привыкли узлы
разрубать мечом. Христос специально войны нигде не запрещает. Что не запрещено,
то дозволено. Следовательно, война дозволена. „Новый Завет
ни в каком случае войн не запрещает", резюмирует вопрос
известный немецкий профессор барон Штенгель. Это по
крайней мере коротко и ясно.
К этому последнему выводу неизбежно и
должны свестись в конце концов все аргументы
апологетов войны по учению христианства. Жалкие аргументы и жалкие выводы!
„Не убий", говорят нам, — действительно
обязательная для людей заповедь, и она торжественно подтверждена Христом. Но в Евангелии
ничего не сказано специально о войне. Следовательно, война — массовое убийство
— разрешается.
Но отчего же не продолжить далее эту
аргументацию? Юрист скажет: „Не укради" — тоже обязательная для всех заповедь.
Но в Евангелии ничего не сказано специально о краже со
взломом. Следовательно, кража со взломом дозволена.
Или: „Не лжесвидетельствуй", сказано
в Ветхом Завете, и „не клянись никак", прибавлено в Новом. Однако, специально о лжесвидетельстве под присягой ничего не
сказано в Евангелии, и следовательно, оно разрешается „верным".
———
1) Православная Богословская Энциклопедия (т. III, 1902) стр. 700 (статья проф. А. Бронзова: «Война»). Мы не можем здесь касаться различных произведений
нашего полемического книжного рынка, в роде, наприм., статьи «Можно ли воевать?»
(СПБ., издан. Семенова) — наивно-безграмотной
компиляции.
— 55 —
И прибавит: „Не прелюбодействуй",
сказано нам, правда, но специально о полигамии (многоженстве) ничего не говорил
Христос, и мы можем спокойно обзавестись десятками женщин.
Что же скажет на все это каждый простой
бесхитростный человек, что сказали бы те старые рыбаки и плотники, и мытари далекой Галлилеи? Какой вывод сделали бы они из таких толкований?
Да только тот, который уже найден все в той же великой книге, где сказано и „не
убий", и „не украдь", и „не лжесвидетельствуй", и „не
прелюбодействуй":
„Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения;
сами не вошли, и входящим воспрепятствовали" (Лук., XI, 52)...
А правда все-таки, рано или поздно,
вырвется на Божий день. И когда с глаз людей спадут, наконец, одна за другою
старые повязки, которые наложило на них тысячелетнее варварство, они увидят ясно,
со стыдом, и страхом, и радостью, — что из заповеди „не убий" никак не
вывести разрешения убийства.
Date:
18-19 октября 2010
Изд: М.А.Таубе. «Христианство и
международный мир», М., "Посредник", 1905
OCR:
Адаменко Виталий (adamenko77@gmail.com)
ВИКИПЕДИЯ:
Таубе, Михаил Александрович, барон (15 мая 1869 года,
Павловск — 29 ноября 1961 года, Париж) — российский юрист-международник,
историк, государственный деятель. Выходец из старинного немецкого рода,
известного с XIII века, католик.
Отец, Александр Фердинандович (19 августа
1834 — 12 июля 1897), выпускник института Инженеров путей сообщения. Мать, Анна
Яковлевна, урожденная Буторова (1833—1916).
Братья — Александр (9 августа 1864 —
январь 1919), генерал-лейтенант российской армии, перешел на сторону советской
власти и получил известность как «сибирский красный генерал». Попав в плен к
белым, он был приговорён к расстрелу, но скончался от тифа в Екатеринбургской
тюрьме. Яков (род. 24 августа 1865) и его близнец Борис (1865—1941) — военные.
Георгий (21 июня 1867 — 25 марта 1868). Сергей (род. 19 августа 1870),
инженер-путеец, оставшийся после революции на родине, получил звание
Заслуженный железнодорожник СССР.
Женился в 1897 году на
Раисе Владимировне Рогаля-Качура (29 сентября 1879 — 9 июня 1962), от которой
имел дочерей Нину (род. 1898), Елену (15 февраля 1902 — 30 апреля 1966), Анну
(род. 1909) и Марию (род. 1909).
В 1887 году окончил с золотой медалью
Шестую петербургскую гимназию, а в 1891 — юридический факультет Петербургского
университета с дипломом I степени (за работу «Рецепция римского права на
Западе»). 1 декабря 1891 года был оставлен при университете для приготовления к
профессорскому званию по кафедре международного права. Ученик известного
юриста-международника, профессора Ф. Ф. Мартенса.
28 мая 1896 года был
утверждён в степени магистра международного права («История зарождения
современного международного права.
(Средние века). Т. I. Введение и часть общая. СПб., 1894»), а 29 ноября 1899
года — доктора международного права («История зарождения современного
международного права. (Средние века). Т. II. Часть особенная. Принципы мира и
права в международных столкновениях средних веков. Харьков,
1899»).
С 1 января 1897 года он
преподавал в Харьковском университете, в 1903—1911 гг. — в Петербургском
унирверситете (сменил на кафедре своего учителя Ф. Ф. Мартенса), в 1909—1917
гг. — в Училище Правоведения.
Профессор. Был членом-учредителем Российского общества морского права (1905
год).
Со 2 января 1892 года и до 1917 года он
был причислен к Министерству иностранных дел. Работал в юрисконсультской части
министерства под руководством Ф. Ф. Мартенса. Вице-директор Второго
департамента МИД (с 1905 года), затем советник (с 1907 года), непременный член
Совета этого министерства. В 1904—1905 годах принимал участие, в качестве
юридического представителя России, в Парижской международной следственной
комиссии по делу о Гулльском инциденте, вместе с адмиралом Ф. В. Дубасовым
сыграл большую роль в успешной защите российских интересов в этом сложном деле.
В 1908—1909 годах — уполномоченный России
на конференции по морскому праву в Лондоне.
С 18 ноября 1909 года был представителем
России в Постоянной палате Международного третейского суда в Гааге. Ему
приходилось давать многочисленные разъяснения, готовить справки и оказывать
консультации по вопросам международного права.
В 1914 году, за несколько недель до
начала Первой мировой войны, убедил правительство
России изъять из германских банков все хранившееся там российское золото.
С 22 апреля 1911 года был товарищем
министра народного просвещения. Был ближайшим сотрудником министра Л. А. Кассо,
как и он, придерживался консервативных политических взглядов. После смерти
Кассо, с 19 октября 1914 по 11 января 1915 года временно управлял
министерством. Неоднократно выступал в Государственной Думе (по вопросу о
выделении из Царства Польского Холмской губернии в 1912 году и др.). Участвовал
в разработке закона о введении всеобщего начального обучения.
11 февраля 1915 года был назначен
сенатором, тайный советник. 1 января 1917 года стал членом Государственного
Совета по назначению, член фракции правых.
Являлся действительным членом
Императорского Исторического общества (1912), Императорского Общества
ревнителей исторического просвещения (1914), почётным членом Московского
археологического института (1912), Витебской (1909), Тульской (1913) и
Псковской (1916) губернских учёных архивных комиссий и Псковского
археологического общества (1916).
Профессионально занимался генеалогией,
автор исследований по истории родов фон Таубе и фон Икскюль. Являлся одним из
главных разработчиков Устава Русского генеалогического общества (1897), был его
членом-учредителем. 15 марта 1914 года он был избран товарищем председателя
этого Общества. С 14 мая 1905 он также действительный член Историко-родословного
общества в Москве.
Был официальным оппонентом на защите
диссертации А. Н. Мандельштама.
Автор научных работ, посвященных
происхождению русского государства и крещению Руси, взаимоотношениям Руси и
католической церкви.
Был действительным членом Санкт-Петербургского
философского общества (1906), почётным членом Общества классической филологии и
педагогики в Санкт-Петербурге (1913). В эмиграции издал сборник стихотворений
«Видения и думы». Мемуарист.
С 1917 — в эмиграции. Член Особого
комитета по делам русских в Финляндии (1918), министр иностранных дел в
сформированном в Финляндии правительстве в изгнании под руководством А. Ф.
Трепова (1918). Затем жил в Швеции (читал лекции по истории международных
отношений и международного права в Упсальском университете) и Германии. С 1928
года жил в Париже, где преподавал в филиале Русского института при юридическом
факультете Парижского университете и в Европейском центре Фонда Карнеги за
международный мир. Входил в состав ученого совета Русского научного института в
Берлине, читал лекции в ряде университетов Германии и Бельгии. Продолжал
заниматься исследованием вопросов международного права. Член Академии
международного права в Гааге. В 1932—1937 — профессор Мюнстерского университета
(Германия), после расторжения с ним контракта (по особому предписанию из
Берлина) вернулся в Париж.
Член Высшего Монархического Совета и
Общества «Икона» в Париже. В 1930-е годы был юрисконсультом великого князя
Кирилла Владимировича. Он принимал участие в разработке нового устава об Императорской
фамилии в редакции, которой придерживались великие князья Кирилл Владимирович и
Владимир Кириллович.
Вошел в состав
образованной 1 декабря 1951 года Центральной генеалогической комиссии для,
учрежденной для принятия мер по пресечению самозванства, устройства третейского
сословного суда, общей регистрации дворянских фамилий, для издания сборника
российского титулованного и нетитулованного дворянства и вообще для
сосредоточения в одном учреждении всего, что касается русского дворянства, куда
заинтересованные лица могли бы обращаться и получать официальную информацию в
соответствии с законами Российской
империи. Был членом Русского историко-родословного общества в Америке.
Труды
История зарождения современного
международного права. том I,
СПб., 1894; том II, Харьков, 1899.
Христианство и организация международного
мира. 2-е изд., М., 1905.
Система междугосударственного права. СПб,
1909.
Восточный вопрос и австро-русская
политика в первой половине XIX столетия. — Пг., 1916.
Вечный мир или вечная война? (Мысли о
Лиге Наций). — Берлин, 1922.
Этюды об историческом развитии
международного права в Восточной Европе. 1926 (на французском языке).
Аграфа: О незаписанных в Евангелии
изречениях Иисуса Христа. — Варшава, 1936. — 150 с. (также:
М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2007).
Аграфа у Отцов Церкви. Варшава, 1937.
Аграфа в древнехристианских апокрифах.
Париж, 1947.
Аграфа в иудейских и магометанских
писаниях. Париж, 1951.
Император Павел I — великий магистр
Мальтийского ордена. Париж, 1955 (на французском языке).
«Зарницы»: воспоминания о трагической
судьбе предреволюционной России (1900—1917). М., 2006.
Библиография
Таубе, Михаил Александрович //
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). —
СПб.: 1890—1907.
Бовкало А. А. Барон Михаил Александрович
Таубе // Из истории Русского генеалогического общества. Сборник статей и
материалов. СПб. 2001. С. 88-93.
Михайловский Г. Н. Записки. Из истории
российского внешнеполитического ведомства. 1914—1920.
Стародубцев Г. С. Международно-правовая
наука российской эмиграции. М., 2000.